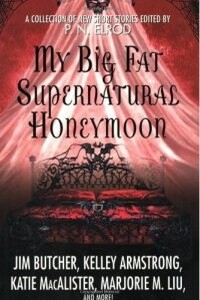Рассказ
Вся беда в том, что у Есио Танака, переводчика, слишком велико профессиональное самолюбие. Не поняв какого-либо слова, он никогда не переспросит. Он или напустит тумана в свои табачные глаза и промолчит, или ляпнет что-нибудь невпопад. Танака-сан не понимает, что одно дело переводить стихи и прозу, а другое — живую речь. Он считает, что в совершенстве владеет русским языком — и литературным, и разговорным, и боже упаси в этом усомниться! Недоразумения у нас начались, когда еще он приглашал меня по телефону выступить на кафедре филологии университета Вакуда перед студентами и аспирантами. К тому времени я по горло был сыт официальными встречами, форумами, симпозиумами и мечтал о простом человеческом общении, чтобы хоть немного приблизиться к интимной жизни страны.
— Дорогой друг, — я заметил, что по телефону японские голоса вкрадчиво истончаются напором двойной вежливости: к собеседнику и телефонному аппарату. — В субботу, в пять часов, в университете Вакуда… вы можете, да?
— Спасибо, я буду. А когда мы, Танака-сан, в турецкие бани пойдем? — я просил об этом, потому что он сам предлагал мне посетить бани, славящиеся массажем, там дробят суставы, пляшут на спине, и человек выходит помолодевшим на десять лет.
— Значит, суббота… университет Вакуда, да? — пищал Танака.
— Да слышу я!.. В баню когда пойдем?
— Суббота, да?.. Университет Вакуда, да?..
— Да будет тебе с университетом!.. — заревел я. — В баню пора идти!..
Молчание, затем в той же терпеливой, любезной тональности:
— В субботу, да?.. Университет Вакуда, да?..
Я бросил трубку.
А в университете Вакуда он мне испортил выступление. Я приберег напоследок мой коронный номер: историю четырехлетнего Комарова, впервые открывшего для себя мир. Вернее сказать, историю маленького артиста, игравшего Комарова в кино. Ему надо было произнести слова: «Теперь я знаю, что такое человек!», но слова эти никак ему не давались, потому что он не знал еще, что такое человек. Он довел до отчаяния съемочную группу, и тогда разъяренная мать спустила с него штанишки и отшлепала по первое число. И тут присутствовавшие на съемке стали свидетелями чуда рождения искусства: светло, радостно, вдохновенно он сказал: «Теперь я знаю, что такое человек!» Эта история пользовалась неизменным успехом и в Москве, и в Ленинграде, и в Варшаве, и даже в Хартуме — всюду заканчивал я ее под громкий смех и аплодисменты. Всюду, но не в университете Вакуда. Танака, видимо, что-то напутал, переврал, мой привычно торжествующий голос упал в доброжелательную, чуть недоумевающую тишину.
Я огорчился: опять не вышло. Сколько таких разочарований, маленьких убийств сердца скапливает человек к пятидесяти годам! Сейчас неудача явилась в образе симпатичного коренастого японца с черным жестким бобриком, табачными глазами в роговых кругах очков и маленьким, тупо срезанным носом, сочившимся простудной влагой. Танака-сан то и дело вынимал из кармана пиджака бумажную салфетку и сморкался в нее, комкал и бросал прочь. Я прочел у Пруста, что китайцы сморкаются в бумагу, оказывается, обычай этот, мудрый и гигиеничный, распространен и в Японии. Зачем, в самом деле, таскать в кармане бациллий зверинец, удобно разместившийся в складках носового платка? Я ничего не понимал ни в Японии, ни в японцах, все было тут неуловимым и неверным, как лунный свет на воде. Мне же хотелось «опереть себя о столп и утверждение истины». Я мечтал хоть об одном-единственном утверждении, которому сам верил бы, ну хотя бы: японцы сморкаются в бумагу, это так гигиенично! Но остальные японцы либо вовсе не сморкались, либо пользовались обычными носовыми платками, и я по сию пору не знаю, отражают ли бумажные салфеточки Танака некий национальный обычай или игру его личной оригинальности.
Танака и высокий, стеклянно хрупкий старик, профессор Маэда-сан, потащили меня осматривать университет. Территория храма науки напоминала район Гиндзя в субботний вечер: многолюдство, толчея, шум, игрища, смех. Огромная толпа окружала молодых танцоров в национальных костюмах, исполняющих старинный ритуальный танец; группа студентов и студенток, выстроившись в затылок, лихо оттопывала популярную «Летку Енку» под репортерский магнитофон; лилипучьего роста взъерошенный студент, взобравшись на ящики из-под сигарет, дирижировал хором, старообразный юноша резким металлическим голосом выкрикивал какие-то воззвания. Я думал, что это зазывала турецких бань, оказалось, член студенческого комитета, возглавляющего борьбу за права студентов.
Меня провели в книгохранилище университетской библиотеки. Я впервые очутился по ту сторону библиотечного барьера; это было все равно что проникнуть в артистические уборные. Тебя охватывает сладостное ощущение причастности к тайне.
Мы прошли в отдел русской литературы. На высоких стеллажах покрывались пылью дореволюционные издания классиков, многочисленные, в бумажных обложках, книги писателей-эмигрантов. Советская литература была представлена как-то странно: разрозненные тома Малашкина и Пантелеймона Романова, Степного (Афиногенова) и почти полный Герман Нагаев. Смущенный Маэда лепетал, что главные залежи находятся во владениях филологического факультета. Он особенно напирал на то, что недавно за счет фондов кафедры русского языка была приобретена последняя книга Сергея Антонова, и предлагал немедленно удостовериться в этом. Но я решил: раз уж мне суждено знакомиться с Японией через библиотеки, то лучше пойти в публичку. Здесь, в обители мысли, не просто читают, а изучают литературу от Малашкина до Антонова, — насколько же интереснее посмотреть народную библиотеку, куда самые разные люди приходят за чтивом. Я так и сказал профессору Маэда. Желание гостя для японцев закон.