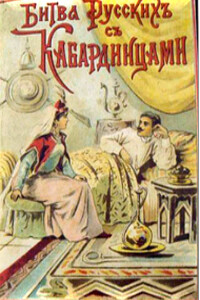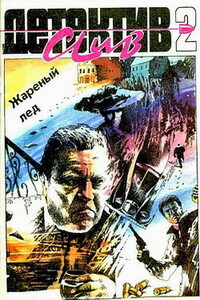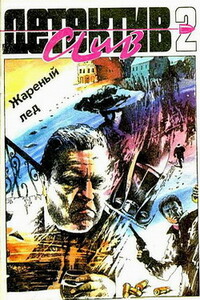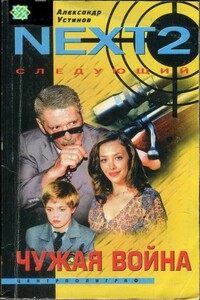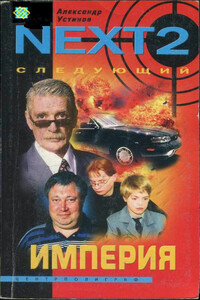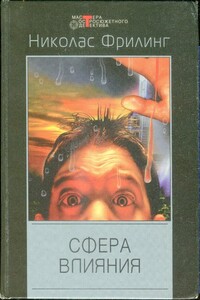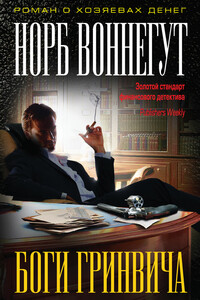Глава 1. Наследники и подселенцы
История, которую я хочу вам рассказать, началась давным-давно, когда москвичей еще не испортил квартирный вопрос, а в центре столицы находились не офисы и фирмы, а жилые дома: одно-, двухэтажные особняки и четырех-пятиэтажные «высотки», так называемые доходные дома. Такой четырехэтажный дом, построенный в самом начале нашего века, стоит в одном из арбатских переулков — Чистом, который выходит на улицу Пречистенка (в советское время — Кропоткинскую). Дом, в общем-то, ничем не примечательный, поскольку никто из революционных деятелей и даже крупных ученых или там архитекторов в нем не живал. Посему мемориальной доски нет и теперь уже, конечно, не будет. А жаль.
Ибо в этом доме, в бельэтаже (по-современному — на втором этаже) до прошлого года находилась квартира, которую в свое время обессмертил Михаил Булгаков в повести «Собачье сердце». Легенда гласит: где-то в середине 20-х годов писатель пришел в гости к каким-то своим родственникам в эту самую квартиру. И она произвела на него такое впечатление своей планировкой и размерами, что Мастер поселил в ней одного из своих литературных героев — профессора Преображенского, который превратил собаку в человека и обратно. А еще профессор успешно отбивался от притязаний «жилтоварищества», пытавшегося превратить его «отдельную семикомнатную» в коммунальную…
Настоящая история квартиры куда более драматична, хотя обходилось все без чудесных превращений и прочих бесовских штучек, от которых ум за разум заходит. До пятидесятых годов, то есть почти тридцать лет, квартира «выбирала» себе жильцов. Похоже было на конкурсный отбор в труппу, призванную сыграть в стенах оной квартиры коммунальную драму: жестокую, нелепую, сентиментальную, временами поднимавшуюся до трагедии, а временами смахивавшую на балаган. Но — все по порядку.
* * *
Я, Регина Белосельская, оказалась кем-то вроде заведующей литературной частью этого «театра». Многие события происходили при мне, даже, можно сказать, на моих глазах. О многих мне рассказывали соседи по квартире. Кое о чем догадалась самостоятельно. Благо времени на размышление у меня хватает. И все услышанное, увиденное, обдуманное я едва ли не с семнадцати лет приучилась записывать в дневник. Я не графоманка, нет, просто для меня эти записи долгое время были одной из форм самовыражения. А кроме того, склоки, дрязги и драмы лично меня по ряду причин не задевали. Ну, не по ряду — по одной-единственной причине, но об этом чуть позже. А для начала могу лишь сказать, что достаточно объективно отношусь почти ко всем своим соседям — и к ныне здравствующим, и уже покойным.
Отца за год до моего рождения, в апреле 1954 года, перевели из Воронежа в Москву. Мама говорила, что в тамошнем гарнизоне им все завидовали. Как же, столица, не провинциальное захолустье! Театры, концерты, магазины, тряпки… Только маме моей не до того было: она работала. И никак не могла привыкнуть к коммунальному житью-бытью первопрестольной после «провинциальной глуши». Там, в Воронежском гарнизоне, отцу, подполковнику инженерных войск, полагалась отдельная двухкомнатная квартирка в двухэтажном особнячке: таком, какие во множестве понастроили после войны пленные немцы. В той квартирке все было крохотное, но — свое.
А здесь на одной кухне, громадной, метров тридцать, не меньше, — четыре газовые плиты и восемь столов. И очередь к единственной раковине с холодной водой. По утрам и вечерам — хвост в туалет и в ванную. Это уже потом, когда я подросла, в квартире стало поменьше народу. А в пятидесятых годах…
Хотя, слышала от соседей, до войны еще «веселее» было. Началось все с того, что в двадцатых годах изначальных хозяев квартиры, родственников Булгакова, разумеется, «уплотнили». Сам хозяин, присяжный поверенный Степан Иванович Лоскутов, к счастью для себя, этого не увидел: скончался от удара на втором году революции, оставив вдову и двух дочерей без средств к существованию. Во внезапное исчезновение многолетних сбережений Степана Ивановича долго не могли поверить не только «компетентные органы», несколько раз устраивавшие обыск в квартире, но и убитые горем домочадцы. Деньги, по тем временам немалые, однако, пропали бесследно. А вдове и двум дочерям удалось сохранить за собой три комнаты и вообще выжить только благодаря своей бывшей прислуге Фросе — Евфросинье Прохоровне Ивановой.
Фрося, устроившись посудомойкой в общепитовской столовой, кормила «барыню» и «барышень», совершенно не приспособленных к жизни вообще, а к наступившей тем более. Она держала в страхе «товарищей-подселенцев», непрестанно сменявших друг друга в трех остальных комнатах. И именно она после смерти «барыни» заменила сестрам Лоскутовым мать. Хотя, собственно, тогда «барышни» уже давно вышли из отроческого возраста: старшей, Анне, было сорок, младшей, Марии, тридцать пять. Обе были «совслужащими», но все, на что их хватало, — приносить домой крохотное жалованье. Остальным занималась Фрося, по каким-то одной ей ведомым причинам не пожелавшая «устраивать личную жизнь», то есть выходить замуж.
И вдруг все резко переменилось В один прекрасный день Анна вдруг привела домой молодого представительного мужчину и объявила: «Это мой муж». В середине 30-х годов это было несложно: дошли до ближайшего загса, расписались — и, пожалуйста, создана новая ячейка общества. Правда, от сорокадвухлетней старой девы никто уже ничего подобного не ожидал. Но ведь сердцу, как известно, не прикажешь. Да и супруг, лет на пятнадцать ее моложе, вполне мог полюбить сухопарую, сутулую, с жидким «кукишем» на затылке, очкастую библиотекаршу. Ничего сверхъестественного в этом не было, коль скоро невеста обладала бесценным по тем временам приданым — шестнадцатиметровой комнатой в центре Москвы.