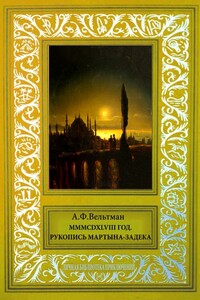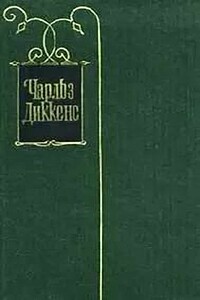Эту историю я слышал от одного гостя, приглашенного на пасхальный седер и случайно сидевшего рядом со мной за трапезой. То был солдат-еврей лет сорока, из запасных, призванный в этом году на войну. Я передаю его слова точно, без прикрас.
I
Второй раз в моей жизни, — начал солдат, — мне приходится проводить седер за чужим столом. В первый раз это случилось, когда я был мальчиком лет девяти, тридцать два года тому назад; тогда вместе со мной Пасху в чужом доме проводила вся наша семья: отец, мать, брат, сестры и даже наш слуга Степа. Как это вышло, вы спрашиваете? Дело было так.
Мой отец с семьей поселился в маленькой деревушке на расстоянии дня езды от еврейского местечка всего через день, ровно через один только день после того, как евреям запретили жить в сельских местностях. Если б он переселился туда днем раньше, ничего бы не произошло, но он опоздал на один день — и участь его была решена. А шел он против закона не ради удовольствия и не из желания прекословить, его к этому вынудила должность лесничего, которую он получил в одном из соседних лесов, а когда речь идет о заработке, никто ведь не думает ни о преступлении, ни о последующем наказании. Местные власти поначалу было показались строгими, но в сущности были очень довольны: в конце концов, для них полезнее один бесправный еврей, чем десять с правами; этот — плодовое дерево, а те — бесплодная смоковница. Действительно, прошло некоторое время, и между обеими сторонами: моим отцом-преступником и блюстителями законов — установились «нормальные отношения»: отец с семьей жил в деревне, а они за это получали, сообразно чину, ежемесячную мзду, а кроме того, подарки к случаю, вроде небольших сумм по праздникам и небольших безвозвратных ссуд да прочих подношений ко всем христианским и еврейским праздникам и ко дню рождения станового пристава, его жены и всех детей. Эти люди, вы знаете, не брезгуют никакими подачками: пару откормленных индюков, бочонок вина, бутылку водки, сотню яиц, сахарную голову[1] в синей бумаге, фунт чаю, пачку табаку, творог, маковые ушки[2] — все берут. И как невинно! Становой, например, никогда не требует, а просит. «Йося, — говаривал он отцу, опуская ему на плечо свою тяжелую руку, — прикажи, пожалуйста, свезти ко мне немного дров из твоего леса, зима ведь подходит уже». Или: «Не забудь, голубчик, послать мне черепиц, этак штук тысячу; ведь видишь сам: крышу чинить пора».
У косоглазого урядника была своя манера: на что свой косой глаз положит, то начнет расхваливать. «Ита, — говорил он матери, посматривая на жирную курицу, копавшуюся в грязи на дворе, — где ты достала такую чудную курочку?» И будьте покойны, после такой похвалы эта чудная курочка складывала свои крылышки на сене в синей коляске урядника. Урядник норовил являться к нам непременно по субботам или по праздникам и обязательно во время обеда. Только садились за стол, как в окне, выходившем на улицу, показывалась рыжая лошадь и синяя коляска урядника, а в коляске и сам урядник. Что поделаешь? Принимали его с почетом, приглашали к обеду. Субботние песни отменялись, книга, в которую папа заглядывал в перерыве между блюдами, закрывалась и откладывалась в сторону, и начиналась пьяная болтовня, осквернявшая субботний стол непристойными словами и насмешками, которые приходилось принимать как милую шутку, смеяться им, когда внутри все переворачивается от боли и рука сжимается, порываясь схватить гостя за шиворот и вышвырнуть его вон.
Правда, со временем наша семья привыкла к нему, перестала обращать на него внимание, и нередко, залив в глотку целую бутылку водки и охмелев, он пел вместе с нами субботние песни, сопровождая их по своему обыкновению ужимками и сквернословием; при этом он подмигивал хозяйке осоловелыми масляными глазками и как бы нечаянно лапал служанку Парашу, толстую крестьянку с изрытым оспой лицом. Только наш привезенный из местечка меламед никак не мог примириться ни с урядником, ни с собакой, привязанной у нас во дворе на цепи. Обоих он всякий раз видел будто впервые, и оба повергали его в панический ужас, хотя отец за душу меламеда приносил особую мзду.
Так прожили мы в деревне лет пять. Тем временем отец из своего леса построил домик и пригласил на новоселье всех крестьян деревни, накрыв для них отдельный стол. За домом, вниз по склону, тянулся большой огород, который разбила мать. В хлеву стояли три молочные коровы, в конюшне — пара лошадей. Во дворе гуляли куры со своими выводками, кричали гуси. В канаве перед двором возились гусята, на ближайшей поляне паслись теленок и жеребенок. Все, как у крестьян. Доходы были небольшие, жизнь скудная, но было в ней какое-то спокойствие и беззаботность.
Все будни отец проводил в лесу, только в канун субботы или праздника возвращался в своей бричке домой и проводил в кругу жены и детей день-два. Дети с нетерпением и радостным трепетом ждали его приезда возле дороги, уходившей в лес. Как только с опушки леса раздавались звуки знакомых колокольчиков, дети встряхивались, словно птахи, и с криком и визгом бежали к коляске: «Папа, папа!» И вот уже они все карабкаются на повозку, падают в нее и жмутся к отцу. Один усаживается на колени, другой виснет на шее, третий ощупывает карманы, чтобы узнать, какой гостинец привез папа. Даже наш кучер, он же лесник, Степа, рослый широкоплечий парень, заражается общей радостью, улыбается, обнажая свои белые и крепкие зубы, и, чтобы потешить детей, взмахивает изо всех сил кнутом, так что лошади вихрем доносят их к дому.