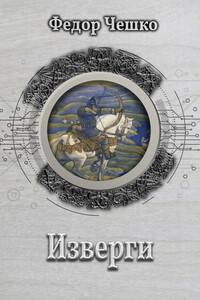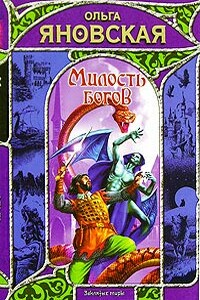Весна выдалась затяжная, гнилая да слякотная. Уже вскрылась и отгремела ледоходом Истра, уже появились на лесных озерцах да болотинах первые разведчики приближающихся перелетных стай, а зима все огрызалась. Ночи звенели нешуточными заморозками, снег в лесу сошел только на полянах, дождливая морось оборачивалась вдруг короткими злыми метелями, а вдоль речных берегов стойко держались кромки почернелого, но все еще прочного льда.
Вымученное бескормицей лесное зверье тянулось к человеческому жилью. Лисы и прочая мелкота не таясь разгребали мусорные кучи под самым земляным валом – низким, оплывшим подножием частокола, который еще прадедами был выстроен вокруг общинного града для защиты от внезапных напастей. А вечерами ближний лес захлебывался разноголосыми переливами жалостных и одновременно грозных стенаний – свидетельством плотной волчьей осады. К середине ночи волки наглели; смутные огнеглазые тени выскальзывали на открытое, приступали все ближе, выискивая, нельзя ли, взбежав на вал, где-нибудь перескочить или протиснуться сквозь местами вгрузший в землю, местами рассевшийся тын. Крики и мельтешение факельных огней на его зубчатом гребне уже почти не пугали серых – все чаще ночной стороже приходилось камнями да стрелами отгонять алчных клыкастых тварей, каждая из которых загривком была по пояс рослому мужику, а в прыжке могла бы сшибить с ног лошадь.
С рассветом волки уходили, однако не все. Те, что посмелее (верней – что поголоднее, ибо волчья отвага рождается не в сердце, а в пустоте урчащего брюха) норовили затаиться среди прозрачного редколесья, с трех сторон обступившего градскую поляну.
Человек (даже из умелейших скрадников) вряд ли бы выискал место для надежной невидной засады меж порченых дровосеками да частыми низовыми палами скудных полумертвых деревьев – особенно ранней весной, когда снег с открытых мест уже сгинул, а трава еще не ожила. Но хищный зверь в надежде набить живым мясом ссохшееся голодное брюхо исхитрится совершить невозможное и для человека, и даже для Злых.
И все-таки редко, очень редко сбывались волчьи надежды. С первым светом ночные сторожа разбредались по избам – спать, но вместо них на тын залезали подростки, готовые поднять крик при виде малейшей опасности; а родовичи, уходящие по надобным общине делам к реке или в лес, сбивались в немаленькие ватаги – при оружии, при смелеющих днем собаках… Да и мало по ранней весенней поре было у людей дела вне града. Пушная охота закончилась (звериный мех плошает перед линькой); добыча пролетной птицы покуда не начиналась. Ягодникам, бортникам, углежогам еще нечего было делать в лесу. Дровяные да мясные припасы тоже не исчерпались – очень редки бывали неизобильные годы, когда добытого с осени и в начале зимы не хватало до прочного тепла; дровами же среди буйного леса не запасется с избытком только ленивый либо вовсе безрукий.
Вот на рыбную ловлю ходили, но опять же ватагами: одному, без невода – с острогой либо с удой – на реке недобычливо. И женщины частенько выбирались на берег стирать да ворошить на влажном речном ветру залежавшуюся по ларям летнюю одежку – снова таки под охраной оружных мужиков.
Так что зря, зря волки изнуряли себя попытками подстеречь неосторожного человека – потому и редка была среди родовичей неосмотрительность, что беспечным выпадал очень недолгий век. Позже, теплой порой волчья тяга к человеческому жилью обретала новый смысл: люди начинали гонять на вольный выпас дожившую до густотравья скотину. Теперь же лес был слишком скуден кормом, и не имело смысла ради несытной пастьбы рисковать малочисленной живностью. И без помощи волчьих клыков зимняя проголодь унесла почти половину лошадей и не менее трети кудлатых да клыкастых полудиких свиней – это несмотря на то, что многие родовичи начали разорять травяные и камышовые крыши, жертвуя теплом жилищ ради сытости изможденной скотины.
Да, весна выдалась гниловатая, долгая. А в общем-то мало чем была она примечательна, весна эта. Почти такие же заботы донимали общинников и в прошлом году, и в запрошлом, и в за-запрошлом, и в за-за-за…
Вот только слухи…
Кто-то якобы слыхал да видал, как однажды ночью на подворье углежога Шалая чёрный кабан по-пёсьи выл на ясные звёзды.
Кто-то якобы заметил в грязи близ причальных мостков чудной след: словно бы прошло там нечто, у которого вместо лап крохотные детские кулачки (бабы потом дня три отказывались ходить к реке – боялись Кикиморы).
Кто-то якобы средь бела дня и чуть ли не на самой градской поляне натолкнулся на великанского красно-рыжего волка, не отбрасывающего тени – натолкнувшийся от испугу сомлел, а когда очнулся, чудовище исчезло, не оставив по себе ни следа, ни хоть единой мятой травинки.
И ещё якобы кто-то своими ушами слышал, как волхв Белоконь говорил родовому старейшине: "Плохая нынче весна. Такой плохой никогда ещё не случалось".
Старики морщились, пренебрежительно хмыкали. Другое-то всё ладно, чего не бывает… Спьяну, впотьмах да издали псину счесть кабаном; боги знают за что принять следы ребячьей игры в грязи; внезапно наскочив на волка, от испуга увидеть невесть какую жуть – нежданный страх зренью лукавый обманщик… Но вот чтоб Белоконь этакое отпустил с языка?! Враньё! Премудрый волхв не стал бы опрометчивыми словами накликать-приманывать беды!