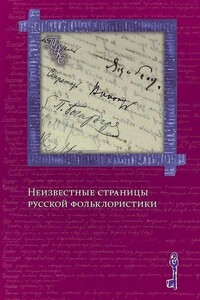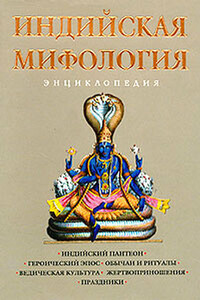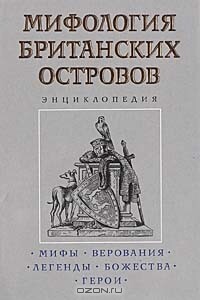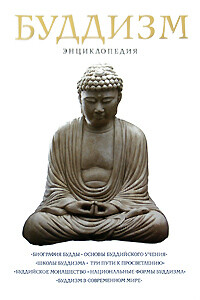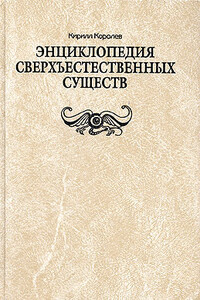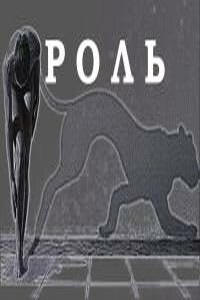Один из классиков современной отечественной фантастики, Б. Н. Стругацкий, регулярно повторял на заседаниях своего литературного семинара в Санкт-Петербурге: «Пишите о том, что вы знаете хорошо, либо о том, чего не знает никто». Эта максима стала творческим кредо представителей так называемой «четвертой волны»[1] российской фантастики — авторов, которые пришли в литературу в 1980-х годах и многие из которых были (или считали себя) учениками братьев Стругацких. Причем подобный подход к литературному творчеству не подразумевал каких-либо жанровых или тематических ограничений — сами братья Стругацкие тяготели к социальной фантастике, однако были уверены (опять-таки исходя из комментариев Б. Н. Стругацкого на заседаниях семинара, на которых автору статьи довелось присутствовать в конце 1990-х гг.), что данное утверждение применимо к любой фантастике, равно научной и ненаучной.
Мы отмечаем это обстоятельство потому, что именно представители «четвертой волны» стояли у истоков наиболее популярных тематических направлений в современной российской фантастике, в том числе направления, которое принято называть «славянской фэнтези». Этот термин первоначально использовался как сленговое издательское определение, был подхвачен СМИ, получил распространение среди читателей и сегодня — во всяком случае, с прагматической точки зрения — является общеупотребительным. Если коротко, славянская фэнтези (конечно, корректнее говорить об «условно-славянской») есть совокупность сюжетов, в которых художественно переосмысляются и воспроизводятся топика и сюжетика восточнославянского фольклора, широко используются условно-средневековый восточнославянский исторический контекст и лексические архаизмы и стилизации, а также актуализируется интерес к дохристианской культурной традиции восточных славян. Это направление приобрело популярность с середины 1990-х годов и в известной степени остается востребованным у читателей по сей день; его «фольклорная» основа очевидна, а потому представляется небезынтересным оценить степень «научности» славянской фэнтези: насколько глубоки познания авторов этого направления в восточнославянском (русском) фольклоре? насколько велика их осведомленность в теориях отечественной фольклористики? какие научные (или, возможно, паранаучные) концепции для них наиболее значимы и почему? наконец, подкрепляют ли они свои тексты авторитетом науки или не утруждают себя поиском необходимых культурно-исторических знаний, предпочитая «свободный полет фантазии художника»?
В 1995 году увидели свет два романа, «инвариантных» для славянской фэнтези, — «Волкодав» М. В. Семеновой и «Там, где нас нет» М. Г. Успенского. Принадлежащие перу представителей «четвертой волны», оба эти романа, несмотря на противоположные художественные установки авторов (первый — «героическое» повествование, продолжение традиции позднесоветского исторического романа; второй — роман-пародия, «потешная деконструкция», юмористическое переосмысление популярных фольклорных и литературных сюжетов[2]), демонстрировали приверженность авторов упомянутому выше принципу братьев Стругацких: и Мария Семенова, и Михаил Успенский писали о том, что хорошо знают. Оба автора приложили немало усилий к изучению конкретного исторического периода и соответствующей этому периоду культуры. Так, М. В. Семенова в интервью отмечала, что при работе над «Волкодавом» и другими произведениями этой тематики для нее «был настольной книгой Рыбаков» [Семенова 2011][3], имея в виду работы академика Б. А. Рыбакова «Язычество древней Руси» (1987) и «Язычество древних славян» (1981). Кроме того, она хорошо знакома с концепцией «основного мифа», предложенной В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым [Иванов, Топоров 1974][4], и впоследствии опубликовала беллетризованный пересказ этого мифа — «Поединок со Змеем» (1996).
Сюжетная линия «Волкодава» отсылает к стилистике «меча и магии»: единственный уцелевший после нападения врага мальчик из племени веннов вырастает и, выдержав множество испытаний, становится достаточно сильным, физически и духовно, чтобы приняться за месть. Разыскивая тех, кто заслуживает его мести, он странствует по миру и совершает по необходимости разнообразные подвиги.
Больше всего мир Волкодава получил от условных славян — топонимику и ономастику (Светынь, Глузд, Елень, Жадоба, Лучезар), анимизм (Волкодав кланяется деревьям, «уважая» их духов, — «боги вырезали нас из дерева», и пр.), принципы общественного устройства племени веннов (веннская Правда) и языческие обряды (обряд добывания живого огня, кровное побратимство, различные требы и др.), летучий народ вилл с их ездовыми животными-симуранами (этимология явно восходит к богу Симарглу, а описание — к иранской божественной полусобаке-полуптице Сэнмурву)[5]. Да и сама этнонимия («венны») отсылает к историческим вендам, или венетам; в отечественной историографии неоднократно предпринимались попытки сопоставить вендов со славянами (обычно со ссылкой на Иордана, латинских хронистов и на античных историков, вплоть до Геродота, — выстраивалась даже генеалогия «венды — венеды — словены») — вполне вероятно, что М. В. Семенова ориентировалась именно на эту традицию. Примечательно, что сопоставление вендов со славянами обычно происходит в контексте норманистской дискуссии, причем в пользу «вендского генезиса» славян высказываются противники норманизма