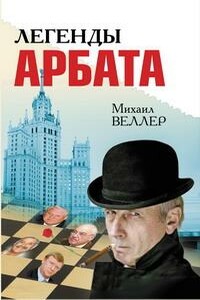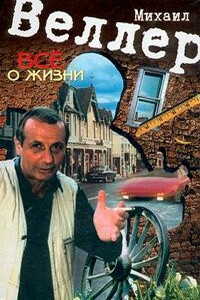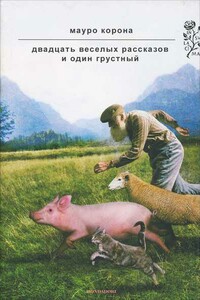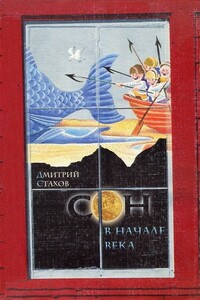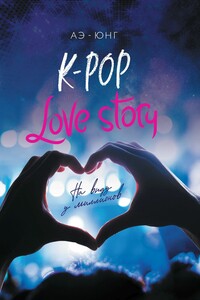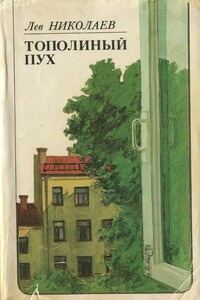В тот вечер в общежитии я был устал, несколько даже измучен и опустошен. Я отвечал за проведение интернационального вечера встречи со старыми большевиками, и хлопот и нервотрепки было вполне достаточно: доставить ветеранов, собрать к сроку народ, принести стулья в холл, договориться с выступающими в самодеятельности, преодолеть, так сказать, недостаток энтузиазма у отдельных студентов, с тем чтобы обеспечить их участие, и т.д. И вот мероприятие благополучно закончилось…
Друзья мои исчезли по собственным делам. Идти одному к себе (я снимал комнату в городе) не хотелось. Хотелось тихо посидеть с кем-нибудь, поговорить, отвести душу.
Итак, началось все банально – в комнате общежития, за бутылкой дешевого вина, с не слишком близким человеком.
Он растрогал меня беспричинным и неожиданным подарком – книгой о походах викингов, об интересе к чему я незадолго до того обмолвился вскользь. Нечастый случай. Я прямо растрогался.
Весна была какая-то безысходная. Мне тогда был двадцать один год, моему новому другу (а через несколько часов мы чувствовали себя безусловно друзьями, – я, во всяком случае, так чувствовал, – причем дружба эта находилась в той отраднейшей стадии, когда два духовно родственных человека определили друг друга и процесс взаимораскрытия, еще сдержанный, с известным внутренним недоверием, все усиливается, освобождаясь, с радостным и поначалу удивленным удовлетворением, проистекающим из того, что обнаружил желаемое, в которое не совсем-то и верил, и внутренние тормоза плавно отпускаются навстречу все растущему пониманию, и понимание это тем приятнее, что суть одно с доброжелательным, позитивным интересом человека еще не познанного и не познавшего тебя и делающегося своим, близким, на глазах, в душе которого все, что говоришь, созвучно собственному пережитому, и он, по всему судя, испытывает все то же сейчас, что и ты) двадцать, и мы оба подошли к тому внутреннему пределу, когда назрело пересмотреть воззрение юности – у людей сколько-то мыслящих и чувствующих процесс часто довольно болезненный, эдакая ломка. Нам обоим не повезло в любви, у него не ладилось со спортом, у меня с комсомольской работой, оба потеряли первоначальный интерес к учебе… мы чувствовали себя хорошо друг с другом… А поскольку говорить сразу о себе неловко, равно как и расспрашивать другого, мы с общих мест перешли к разговору о третьих лицах; вернее, вышло так, что он рассказывал, а я слушал. И рассказ, и восприятие его, были, конечно, созвучны нашему настроению. Настроение, в свою очередь, определялось, помимо сказанного, обстановкой: бутылка, два стакана и пепельница с окурками на застеленном газетой столе под настольной лампой с прожженным пластиковым абажуром, истертый пол, четыре койки в казенных одеялах, словари и книги на самодельных полках, чьи-то носки на батарее, за окном ночной дождь, и звуки танцев из холла этажом ниже.
Услышанная мною история была такова.
Человек, живущий в этой же комнате, – стало быть, приятель моего нового друга, – прекрасная душа, полюбил хорошую девушку со своего курса. Они собирались пожениться. Но другая девушка с этого же курса жившая в общежитии, его прежняя любовница, устроила публичный скандал с оповещением различных инстанций и изложением бесспорного прошлого вероятного будущего в лицо неподготовленной к такому откровению невесты. Убитая невеста перестала являться таковой. Виновник всего, человек тихий, славный и деликатный, чувствовал себя опозоренным, в депрессии неверно истолковывая молчаливое сочувствие большинства окружающих; всюду ему чудились пересуды за спиной, – здесь-то он был отчасти прав, – и жизнь ему сделалась несносна. Он решил уйти из университета – что вскоре и действительно сделал.
И еще я услышал, что после школы учился он в летном училище. В одном полете двигатель его реактивного истребителя отказал. Он не катапультировался, спасая от катастрофы людей и строения внизу. Он умудрился посадить самолет без двигателя, хотя по инструкции этот самолет без двигателя не садился. После посадки самолет взорвался. Чудом оставшись в живых, изувеченный, он долго лечился. Потом у него открылся туберкулезный процесс; после госпиталей он год провел по санаториям. К службе в авиации был больше непригоден. После этого он поступил в университет, который сейчас и собрался бросать из-за невыносимо сложившихся обстоятельств: рухнуло все.
Любовь и расстроившийся брак – как нельзя более близкое мне на этот момент – настроило частоту восприятия. Я принял случившееся внутри себя, сокрушаемая жизненная стойкость растравила душу, высокое мужество прошлого поразило воображение, закрепив, зафиксировав все.
Собственно, это был готовый материал для повести, и воспринятый, казалось, достаточно глубоко, чтобы переплавляться в подсознании.
Я увидел этого человека (то есть заметил специально впервые) через несколько дней. Он бы невысок, хрупок, светловолос, с предупредительными без угодливости манерами. Говорил тихо и немного, улыбка у него была неуверенная, застенчивая, болезненная какая-то – и вместе с тем открытая и подкупающая. Пожалуй, будет вернее сказать – готовность стать открытой, если будет уловлено чувство искреннего расположения в собеседнике, – вот что в ней подкупало. Я никогда не слышал, чтобы он смеялся. В целом он очень располагал к себе.