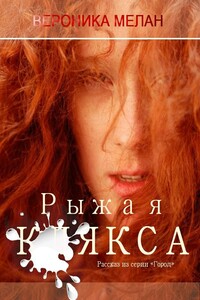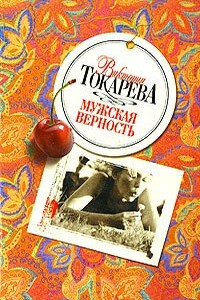1. От императора Сонгцена Гампо до императора Три Сонгдецена
Организованная религия бон и местная тибетская традиция
Бон и буддизм – две главные религиозные традиции Тибета. Первая из них была местным тибетским верованием, тогда как вторая была утверждена первым тибетским императором, Сонгценом Гампо (Srong-btsan sgam-po, годы правления 617 – 649). Согласно традиционному тибетскому описанию, эти две традиции серьезно конкурировали. Однако современные ученые полагают, что ситуация была гораздо сложнее.
Организованной религией традиция бон стала только после XI века к тому времени у нее было много общего с буддизмом. До тех пор добуддийская местная традиция Тибета, иногда ошибочно также называемая боном, состояла главным образом из ритуалов поддержки имперского культа, таких как сложные жертвоприношения для императорских похорон и успешного заключения договоров. Эта традиция также включала в себя системы предсказаний, астрологии, исцеляющих ритуалов умиротворения вредных духов и медицины на основе лекарственных растений.
В исторической литературе организованной религии бон говорится о том, что она ведет свое начало от Шенраба (gShen-rab) – учителя из легендарной земли Олмо Лунгринг ('Ol-mo lung-ring), находившейся на восточной границе страны Тагзиг (sTag-gzig), – который давным-давно принес это учение в Шанг-Шунг (Zhang-zhung). Шанг-Шунг был древним царством со столицей в западной части Тибета, рядом со священной горой Кайлаш. Основываясь на лингвистическом анализе, некоторые современные русские ученые отождествляют Олмо Лунгринг с государством Элам в древнем западном Иране, а Тагзиг – с «Таджик», то есть с Бактрией. Соглашаясь с заявлением бона о том, что сходные с буддийскими аспекты этой традиции предшествуют по времени Сонгцену Гампо, эти ученые утверждают, что изначальный толчок развитию этой системы был дан где-то в начале I века н.э. бактрийским буддийским мастером, пришедшим в Шанг-Шунг, вероятно через Хотан или через Гилгит и Кашмир. Шанг-Шунг традиционно имел близкие экономические и культурные связи с каждым из этих соседних регионов. Признавая то, как описывает свое происхождение религия бон, эти ученые объясняют, что, прибыв в Шанг-Шунг, буддийский мастер придал местным ритуальным практикам многие черты, близкие к буддизму.
Связь Сонгцена Гампо с Шанг-Шунгом
Сонгцен Гампо был тридцать вторым правителем Ярлунга (Yar-klungs), маленького царства в центральном Тибете. Он завоевал Шанг-Шунг в ходе расширения своих владений и основания обширной империи, простиравшейся от границ Бактрии до границ ханьского Китая и от Непала до границ Восточного Туркестана. Согласно историческим записям Шанг-Шунга, когда-то он занимал все Тибетское нагорье. Однако к тому времени, когда Шанг-Шунг потерпел поражение, его территория включала только западный Тибет.
Давайте оставим в стороне вопросы дальнейшего расширения границ Шанг-Шунга, наличие в Шанг-Шунге на пике могущества этой империи сходных с буддизмом особенностей, а также их возможное происхождение. Благодаря свидетельствам, найденным в гробницах предшествовавших Сонгцену Гампо ярлунгских царей, мы по-прежнему можем обоснованно заключить, что по крайней мере система ритуалов, существовавшая при дворе Шанг-Шунга, была общей для обоих императорских домов региона, так же как и для территории, которую Сонгцен Гампо завоевал в западном Тибете. В отличие от буддизма, ритуалы Шанг-Шунга не были иностранной системой практик и верований, а являлись неотъемлемой частью пантибетского наследия.
Чтобы упрочить политические союзы и свою собственную власть, Сонгцен Гампо сначала женился на принцессе из Шанг-Шунга, а затем, в конце своего правления, на принцессах из Китая династии Тан и Непала. После свадьбы с принцессой Шанг-Шунга он приказал убить ее отца Лигньихью (Lig-myi-rhya) – последнего царя Шанг-Шунга. Это позволило ему сместить направленность местной ритуальной поддержки с имперского культа на себя самого и свое быстро растущее государство.
Сонгцен Гампо пытался утвердить буддизм в Тибете под влиянием своих жен из ханьского Китая и Непала. Однако в то время буддизм не укоренился и не распространился среди основного населения. Некоторые современные ученые подвергают сомнению историческую достоверность существования непальской жены, однако архитектурные свидетельства того периода указывают по крайней мере на некоторое культурное влияние Непала, имевшее место в то время.
Появление иностранного верования в Тибете в первую очередь выразилось в основании тринадцати буддийских храмов, построенных в специально выбранных для этого геомантических местах владений Сонгцена Гампо, включавших территорию Бутана. Изображая Тибет на картах в виде демоницы, лежащей на спине, Сонгцен Гампо тщательно выбрал места для постройки храмов в соответствии с правилами китайской акупунктуры, примененных к телу демоницы, надеясь обезвредить любое противодействие своему правлению со стороны местных злых духов.