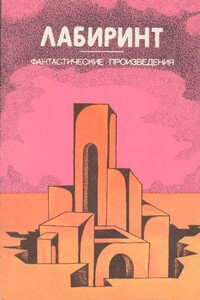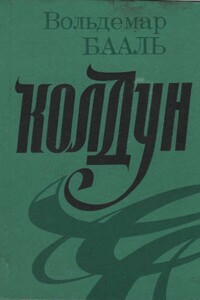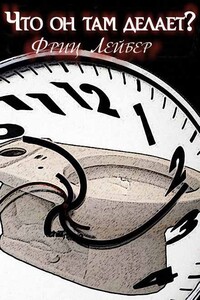Жан видел сладкий сон.
Как будто он идет по степи и поет. А навстречу движется крепость огромная, красивая, с золотыми и лазуритовыми купонами минаретов и фиолетово-мрачными дырами бойниц. Вначале Жан думал, что это мираж; вот, думал он, я буду идти, идти, петь, петь, а крепость все будет и будет маячить впереди, и никогда я до нее не дойду. Но когда оказалось, что она сама движется навстречу, Жан понял, что на сей раз произойдет что-то особенное — может быть, даже чудо. И оттого сон был сладок. Он часто видел во сне миражи, уже, можно сказать, привык их видеть, знал, был уверен, что это там — мираж, хотя все-таки продолжал идти, как будто была игра «кто дольше вытерпит» — мираж или он. И всегда Жан выигрывал: мираж, в конце концов, исчезал, сон заканчивался. Но теперь все было иначе: мираж не только не отдаляется, а наоборот — сам идет навстречу, и значит, это не мираж, а что-то иное. Жан увидел, как за движущейся крепостью встает облако пыли, встает и растекается, и оседает на желтые горбы барханов.
Стена словно выросла перед ним, выросла и остановилась. Он тоже остановился и потрогал стену рукой, отчего вдруг образовались ворота, и Жан вошел в них. За воротами была площадь, по которой разбегались маленькие узкие улочки. На одной из них Жан увидел древнего старика: тот сидел на земле, прислонившись к дувалу, и — похоже было — дремал. Жан хотел пройти мимо, но вдруг отчетливо вспомнил, что именно этот старик ему нужен, именно его он искал, и тогда он приблизился и почтительно поздоровался с сидящим. И тут сон перестал быть сладким.
Старик поднял голову, белая борода его воинственно выставилась вперед, а в поблекших глазах засветилась боль. Челюсти его разжались и задвигались — он что-то говорил, но голоса не было.
— Я ничего не слышу, ата, — сказал Жан, и сердце его сковало жалостью. — Или я глухой, или вы безголосый. Но еще несколько минут назад я слышал, как свистит ветер, а в песке шевелятся ящерицы. И еще я слышал собственный голос: я пел. И теперь я слышу себя. Значит, я не глухой. Значит, вы безголосый. Что я могу для вас сделать?
Старик достал из-за пазухи калам и принялся что-то чертить на песке. Жан разобрал слова: «Верни мне мой голос».
— Но я не брал вашего голоса! У меня всегда был свой! — воскликнул Жан. И тут ему показалось, что он сказал неправду, что голос, которым он обладает, он действительно у кого-то взял или занял и позабыл отдать, и вот наступила расплата.
Жан гнал от себя эту жестокую правду, продолжая уверять старика, что всегда имел собственный голос, что как раз благодаря голосу так счастливо повернулась его судьба и исполнилась заветная мечта: он принят в консерваторию. Да, ему очень жаль почтенного ату, но свой голос отдать ему он никак не может: голос для него — все, если он утратит голос, он утратит смысл жизни.
«Ты будешь пользоваться чужим, — написал старик, — а все будут думать, что это — твое, и ты сможешь быть счастливым?»
И Жан понял, — да! — он никогда не сможет быть счастливым, потому что голос не его — это святая правда. И тогда он опустился на колени, приблизил свои губы к морщинистым губам старика и крикнул. Глаза того закрылись, морщины стали разглаживаться, лицо озарилось блаженством.
— Спасибо, бала, спасибо, сынок, — прошептал он, словно пробуя вновь обретенный голос. — Я был муэдзином, хвала аллаху, нормой голос похитили и меня прогнали из мечети. И долгие годы я сидел здесь, поджидая похитителя — так повелел мне аллах, да не померкнет вовеки справедливость его. И вот ты пришел и был честен. Оставайся здесь же и жди того, кто пользуется твоим голосом, — аллах, неизмерима милость его, пришлет и твоего похитителя, как прислал мне моего.
— Я останусь и буду ждать, — ответил Жан а не услышал себя. Душа его заныла.
Старик исчез, и Жан занял его место. Отныне, понял он, ему суждены неисчислимые страдания, никто никогда не услышит ни песни его, ни жалобы; с мечтой надо распрощаться; друзья его забудут, забудет и учитель, прочивший ему славное будущее, потому что теперь у него нет будущего…
И в этот момент Жан увидел иной свет и проснулся. Над ним стояла мать и, дотрагиваясь до его лба, тихо говорила:
— Проснись, Жанша! Что тебе такое снится, сынок, что ты так беспокоен? И опять ты плакал?.. — Она села рядом. — Ну кто виноват, что так случилось? Надо успокоиться. — Она стала осушать платком его лицо. Мальчик мой, все еще может поправиться.
— Нет, — сказал он. — Нет, мама. Ты же слышала, что они сказали… Такие болезни неизлечимы.
— Твой дедушка говорил, что неизлечимых болезней не бывает. Как и неисправимых недостатков. Все зависит от того, кто лечит или исправляет. Понимаешь, Жанша?
— Дедушка не знал про современные болезни.
— Он много знал… Пусть даже кому-то кажется современная болезнь неизлечимой сейчас, зато потом…
— Потом будет уже поздно, — перебил он и отвернулся.
— На следующий год ты можешь поступить в какой-нибудь институт, Жанша. Я была бы рада, если бы ты стал учителем. Учителем литературы, например. Ты любишь и знаешь литературу.
— Конечно, — с горечью произнес он. — Родителям всегда хочется, чтобы дети пошли по их стопам.