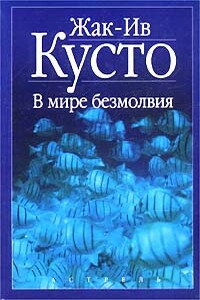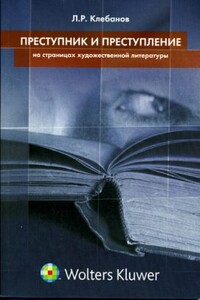На какое психологическое знание ориентировался Ф. М. Достоевский, когда выводил на страницы своих текстов истерических персонажей? Сталкиваемся ли мы в этих случаях с симптоматологией истерии в терминах современной ему психологии (1860–1870-х годов)?
Дофрейдистский дискурс истерии как нервной женской болезни или как расстройства нервной системы складывался из записей, акцентировавших внимание на истерических припадках. Такие записи включали объяснение этиологии болезни (обнаруживавшей, как правило, сексуальную подоплеку) и предположения о природе женского характера (пресловуто притворного, склонного ко лжи и капризам). Распространение нервной патологии (с аналогичными симптомами) на мужчин стало возможным после отказа от гиппократовского убеждения в том, что источником истерии является блуждающая матка. Мужскую истерию первоначально объясняли с физиологической точки зрения, допуская, что она может быть результатом травм (например, полученных в результате железнодорожных катастроф и т. д.), но не признаком, устрашающе свидетельствующим о болезненной душе или сексуальных отклонениях. Родственные симптомы усматривали также и в гораздо более высоко оцениваемой эпилепсии, считавшейся в целом эквивалентом истерии [Israel 1976].
Научно-медицинская интерпретация истерического дискурса варьирует его характеристики[1]. В медицинских руководствах эпилепсия и истерия определяются в качестве функционального нарушения, вызванного расстройствами нервной системы, — это нервозность или невроз (понятие, ставшее после 1776 года дефинитивным при определению обеих болезней). Такое уравнивание эпилепсии и истерии будет опровергаться в теориях XX века, но в конце XVIII столетия понятие «нервозность» было все еще вполне свободным в своем научном и разговорном употреблении, служа обозначению различного рода психических нарушений. В первой половине XIX века в словарь входит понятие «истерический». Расхожее словоупотребление еще не противостоит строго научному дискурсу и оправдывает весьма широкое использование этих и других терминов. И тот и другой термин варьируют один и тот же дискурс, использовавшийся Достоевским. Однако, помимо привычного для современников Достоевского обыкновения говорить о психических особенностях индивидуальной и социальной жизни, ему были присущи «авангардистские» взгляды на природу души. Обсуждения заслуживает уже тот психоаналитический колорит, с каким изображается истерия в литературных произведениях Достоевского, позволяющее оценить их в свете диагностических открытий Ж.-М. Шарко в лечебнице Salpetriere в конце 1880-х годов. Можно убедиться, что в целом ряде случаев литературный дискурс предшествует этим достижениям. Но тот же дискурс становится добычей психоаналитической экспертизы. Прочтение 3. Фрейдом «Братьев Карамазовых» служит доказательством двойной функции литературного текста: он выступает как в роли «агента» (наблюдателя-психоаналитика), так и «пациента» (субъекта психоанализа). Литературный и психоаналитический дискурсы предстают при этом интригующе взаимосвязанными: психоаналитический образ души развертывается в литературных текстах подобно тому, как разворачивается литературный образ души в текстах психоаналитика. Если учесть, что даже дофрейдистские предположения на предмет истерии концентрировали внимание на том, что не схватывается в терминах самоочевидной симптоматики, то вопрос о направленности «невнятного» послания от одного дискурса к другому напрашивается в данном случае сам собой.
В рамках нашей темы суть проблемы состоит, впрочем, не в том, какая именно симптоматология истерии исчерпывающе определяет произведения Достоевского, а в том, с каким литературным дискурсом она сочетается (мои замечания относятся к «Бесам», «Братьям Карамазовым» и некоторым другим текстам Достоевского).
Допустимо предположить, что Достоевский воспользовался модным инвентарем психологических понятий с тем, чтобы читатель легче воспринимал обсессивные выходки описываемых им персонажей. Словарь истерии, бешенства, лихорадки, экстаза, нервозности, который мы обнаруживаем на страницах произведений Достоевского, выглядит в этом смысле не чем иным, как средством усиления экспрессивной выразительности в описаниях странностей поведения, настроения, чувств, мыслей и поступков. Вместе с тем анализ дискурса, который я рискую назвать «истерическим дискурсом» Достоевского, позволяет учесть также две иные возможности: интерес Достоевского к феноменологии эксцентричности и к конкретным мотивам (религиозным и эротическим), с одной стороны, и их сугубо риторическое выражение — с другой. Не приходится сомневаться в том, что Достоевский трансформирует словарь истерии как в отношении его семантического расширения, так и в плане его экспрессивных возможностей. Здесь мы сталкиваемся с собственно литературоведческой проблемой. Ведь именно указанной трансформации сопутствует появление стилистических черт, которые, по М. М. Бахтину, принадлежат к «карнавальному способу письма». Между тем карнавальная и «истерическая» стилистики могут быть соотнесены друг с другом, что позволяет увидеть за ними определенное родство, а точнее — их взаимообратимость, напоминающую, с одной стороны, о давней традиции, а с другой — об обновленных средствах дискурсивной выразительности. Один стиль может быть проинтерпретирован через другой. Акцентируя внимание на специфике преувеличения, усугубления и разрушения, Бахтин в целом не касался топики истерии. Истерия выступает у него не главным, но частным фактором общестилистической установки Достоевского. Равнодушие к современному для писателя психологическому дискурсу объясняется у Бахтина стремлением связать стилистическую «карнавальность» с традицией мениппеи, достигшей, по его мнению, в произведениях Достоевского нового пика. В порядке контраргумента можно, однако, заметить, что, формулируя эстетику «карнавальности» под влиянием Достоевского, Бахтин конструирует «архаическую» эксцентричность Достоевского путем исключения современных ему психологических теорий. Учет интеллектуальных мотиваций, стоящих за концепцией Бахтина, в данном случае не важен для понимания собственно дискурсивных вопросов. Даже вполне элементарное усвоение основополагающих для Бахтина положений о нарративной структуре, семантике гиперболы, об изображении характеров в ситуации скандалов, из ряда вон выходящих поступков, о гротескном теле и т. д. не исключает рассмотрения «карнавального» как истерического и наоборот