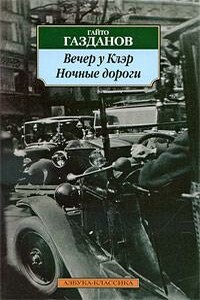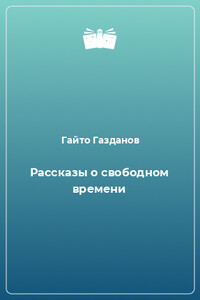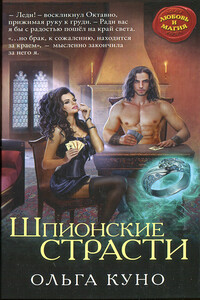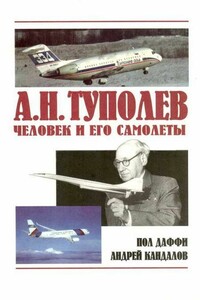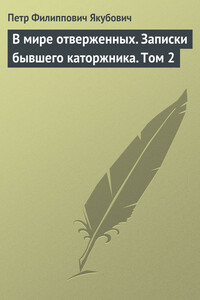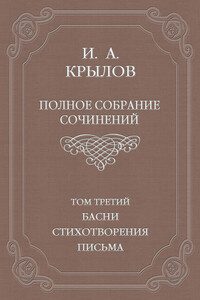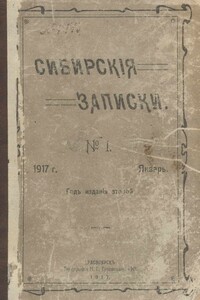Что мне спеть в этот вечер, синьора,
Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось?
А. Блок[1]
Уже за четверть версты до того места, где находилось здание, в котором должен был происходить концерт, улица была запружена автомобилями и полна народу: со всех сторон продолжали прибывать, выезжая из-за углов, длинные бесшумные машины, к идущим по тротуару людям прибавлялись новые, и в воздухе звучали сирены, и гудки, и свисток полицейского, и говор множества людей. У входа в театр происходила давка; и пробившиеся сквозь толпу облегченно вздыхали, попадая в просторный hall[2], где восседающие за высокой конторкой седые и безмолвные джентльмены в черных костюмах делали на предъявленных билетах небрежные росчерки синим карандашом и отмечали что-то у себя на плане театра, лежащем перед ними. Над креслами партера колебалась синеватая, глубоко уходящая мгла, потухали бесчисленные матовые лампы под потолком; и сквозь убывающий, редеющий шум сдержанной речи начинали доходить до последних мест верхних ярусов невнятно струившиеся звуки рояля, за которым сидел лысый и невероятно худой человек, делавший такие механические, такие почти невольные, казалось бы, движения, что было странно, почему в результате этих движений в темноте теперь уже окончательно умолкнувшего зала возникала точно стеклянная, сотрясающаяся постройка, прозрачная и застывающая музыкальная страна, меняясь с волшебством сновидения: она становилась все прозрачнее и прозрачнее к концу, — и когда лампы снова зажглись — от нее уже ничего не осталось, и казалось, что она ушла в тот момент, когда растворился в воздухе, пронизанный светом электричества, неверный и тяжелый занавес синеватой мглы над залом.
Аршинные буквы на улице многократно повторяли одно слово — Рикарди; оно было окружено маленькими строчками с мелкой печатью, которых никто не читал; оно было написано прямо и вкось, и оно же горело наверху целой системой электрических лампочек красного цвета, поддерживаемых с обратной стороны сложным сплетением проволок. Не было даже имени, стояла одна фамилия — Рикарди, и этого было достаточно, так как эту фамилию знали во всех больших городах земного шара, хотя Рикарди было всего тридцать шесть лет и первое его выступление в Париже произошло только двенадцать лет тому назад; и музыкальные критики писали тогда о молодом певце скорее сдержанно, умеренно удивляясь средним нотам его баритона и подчеркивая, что Франция слышала лучших певцов. Зато теперь, еще за месяц до его приезда, о нем были написаны многие страницы с подробным разбором всех особенностей его гения.
Его наружность знали по многочисленным портретам — и корреспонденты газет уже заранее представляли себе, как они начнут отчет о концерте с описания высокой фигуры артиста, его фрака, его точных и уверенных движений и мелькания в воздухе его белого платка, который он подносил к напудренному лицу после конца каждой арии или романса.
Но и их ожидания, и ожидания всех людей, находившихся в зале, были обмануты — потому что случилась невероятная и неслыханная вещь: Рикарди не приехал на концерт. Телефон давно уже звонил, не переставая, в его пустой квартире, уже давно стучали в дверь какие-то молодые люди, приехавшие за знаменитым певцом, — но дверь оставалась закрытой, и к телефону никто не подходил. Концерт был отменен; и толстый человек в смокинге, с мгновенно вспотевшим от волнения лицом, объявил с эстрады, что Рикарди заболел и что дирекция театра готова вернуть стоимость билетов — и откроет для этой цели свои кассы завтра в 9 часов утра. Зал чрезвычайно быстро опустел, разъехались автомобили, погасли электрические буквы наверху, и через полчаса улица снова приняла свой обычный вечерний вид — и никто бы не подумал, что так недавно здесь, на этом месте, произошло нечто непохожее на то, что происходит каждый день.
Рикарди не оказалось в его квартире. На столе его кабинета в высокой и узкой вазе стоял белый цветок редкого растения с сильно измятыми лепестками. Больше не было ничего. Все вещи Рикарди, которые он обычно возил с собой, исчезли. Это было описано на следующий день во всех газетах, высказывались предположения, что Рикарди лишил себя жизни: один из журналистов развивал даже мысль, что все это сделано для рекламы: предполагали еще какую-нибудь особенную романтическую историю — но все эти предположения не могли быть подтверждены ничем, так как подлинная судьба Рикарди не была никому известна. Во всяком случае, даже самые близкие ему люди не знали, что с ним случилось; и если его исчезновение было добровольным, — что казалось единственно возможным, — то чем оно было вызвано — этого никто не мог объяснить: Рикарди, помимо всего, отличался прекрасным здоровьем. Правда, в последнее время на его лице появлялись иногда — но потом исчезали — маленькие розовые пятна, которые он запудривал, но доктора, к которым он обращался, объясняли это повышенной нервной деятельностью — что казалось более чем вероятным, тем более, что сколько-нибудь точного диагноза они поставить не могли, ссылаясь на явно нервный характер заболевания, делающего природу этих пятен «медицински неопределимой», как они говорили. Рикарди сам не придавал этому большого значения — вплоть до того дня, который был двумя неделями раньше его концерта — и когда с ним случилось то, что было единственной и последней причиной его безвозвратного исчезновения.