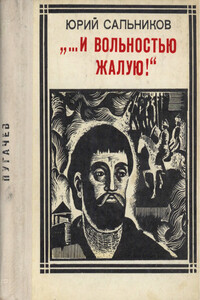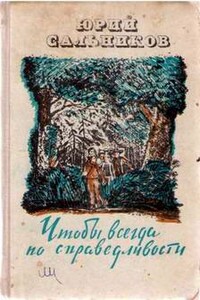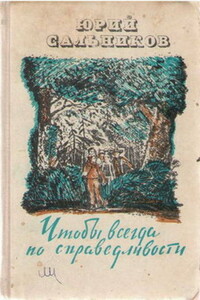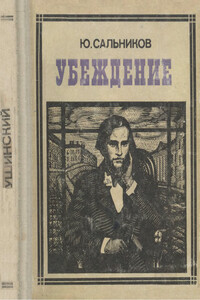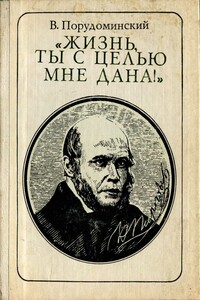ГЛАВА 1
«Я — ГОСУДАРЬ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ!»
Ранним утром в канун успеньева дня 14 августа 1773 года к постоялому двору, затерянному в сызранской степи у речки Таловой, подкатила подвода, на которой сидел приземистый бородатый человек. Шустро спрыгнув с телеги, он постучал в ворота, над которыми на длинном шесте было прикреплено колесо да клок соломы — знак гостеприимства и сигнал для всех путников-дорожников: заворачивайте, мол, сюда, отдыхайте!
На стук вышел хозяин умета Степан Оболяев, по прозвищу Еремина Курица, отставной солдат и старый холостяк.
— Ух ты, еремина курица! — воскликнул он, увидев приезжего. — Освободился, Пугачев?
— Бог помог, — усмехнулся Пугачев и, введя лошадь во двор, прошел в постоялую горницу. — А что, братушка, не искали меня здесь?
— Нет, — ответил уметчик.
— А на Яике что слышно?
— Смирно вроде, — сказал Оболяев, но не очень уверенно.
— Пьянов жив ли? — продолжал допытываться Пугачев.
— Пьянов в бегах. Как погостевал ты у него, после проведали, совращал он казаков бежать на Кубань. Ну и пришли за ним. Только он утек, еремина курица, а жинку его забрали.
— Вот тебе и смирно, — сказал Пугачев и перевел разговор на другое: — Ладно, устал я с дороги. Баньку наладь.
Уходя, Оболяев оглянулся. Года не прошло с того дня, как Пугачев впервые появился здесь, на Таловом умете, — ноябрьской вьюжной ночью приехал с Семеном Филипповым в Яик за рыбой. И прожил у Дениса Пьянова в городке неделю, когда же уехал, поползли слухи; Пьянов тогда сказал — не простой у него был гость. И даже намекнул какой. А какой именно, помыслить страшно…
Вот сидит он сейчас в сермяжном крестьянском кафтане, подпоясанный цветным кушаком, в холстяной рубахе, вышитой шелком. На ногах коты и шерстяные чулки белые, а белую войлочную шляпу у двери оставил, рядом с ружьем. Кроме ружья и вещей-то нет — в телеге на сене несколько арбузов да медный котел…
Непонятная робость охватывает бывалого солдата перед этим человеком. Годов тридцати, да заросший весь, борода окладистая, волос густой, глаза черные. Вроде такой же он, как был. Однако седина появилась, борозда глубокая поперек лба легла. Облокотился на стол — широкоплечий, сильный, тяжелый взгляд в землю уставил.
Возмечтал Емельян перелом в жизни своей совершить предерзостный.
Он и сам не ведает, когда зародилось у него это намерение. По наущению ли купца-старовера Добрянского Кожевникова? По подговору ли настоятеля Мечетного монастыря игумена Филарета? По чьему ли еще подстрекательству?
А может, никто не сумел бы подбить казака донского вольного Емельяна, сына Иванова, на столь рисковое предприятие, ежели б сам не увидел он воочию и не уверился, в каком рабстве пребывает простой люд на Руси, стоном стонет от податей и прочих отягощений!
Недаром и казаки яицкие волнуются. Даже бунт учинили, генерала Траубенберга, старшин и офицеров поубивали, а потом отправили в Питер челобитчиков — испрашивать прощения у всемилостивейшей государыни Екатерины.
Да только сильно разгневалась царица Катька и положила без замедления усмирить мятежное войско. Отобрали у яицких казаков их былые вольности, войсковую избу порушили, казачий круг распустили, сняли набатный колокол — отныне все сборы производятся барабанным боем. А главных зачинщиков безжалостно отстегали кнутом, ноздри повырывали, выжгли позорные клейма на теле и сослали в Сибирь. Остальных же — тысяч до трех счетом! — обложили денежной вытью. Но и в платеже не соблюли правоту — раскладку денег делали неравно: с иных, достаточных, меньше брали, с неимущих больше.
Попритихли яицкие, но не смирились. До сей поры в смятении — хорошего царя ждут…
В горницу вошел Оболяев:
— Банька-то слажена.
— Мне рубаху надоть, — сказал Пугачев, снимая свою.
И тут увидел: хозяин-уметчик неотрывно смотрит на шрамы его, что рассыпаны на груди, будто кресты белые. В походах давних мучили Емельяна язвы, еле поправился, а следы остались навечно.
— Что же это у тебя на груди-то? — со страхом спросил Оболяев.
Пугачев прищурился, живо смекнул: вот он, час надобный! Потребно ли иного ждать, если зараз объявиться можно?
И ответил с твердостью в голосе:
— А это знаки у меня государские!
Вовсе обомлел Еремина Курица:
— Х-хорошо, коли так. — И даже отступил на полшага, уже не от робости, а с почтением.
Понял Пугачев, что дошли и до старого уметчика слухи о пребывании «высокой особы» у Дениса Пьянова, которому он, Емельян, самолично тогда еще намекнул про свое «высокое звание». Да не поосторожничал, видать, — выдал их малыковский мужик Филиппов.
Били Емельяна в управительской канцелярии батожьем нещадно, но ни в чем он не сознался. И повезли его в Симбирск, а потом в Казань скованного, в тяжелых кандалах — на руках висело пятнадцать фунтов, на ногах тридцать пять.
Четвертый раз под стражу к государевым слугам попал Пугачев! И чудом спасся. Казанский губернатор фон Брандт отослал бумаги за приговором в Петербург. Пугачев же тем временем и утек из острога. С превеликим трудом вырвался на этот раз — колодника Дружинина подговорил и солдата Мищенко… Да вот опять и оказался на этом безлюдном умете, чтобы начать здесь с отвагой задуманное.