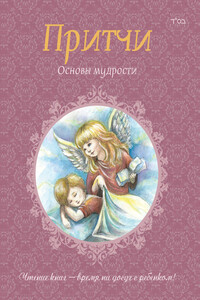Летний воздух Гельвеции, чистый, звенящий, тепел даже ночью, когда небесный свод укутывается тьмою с частой россыпью звезд, и лишь легкая свежесть нет-нет, да и охладит щеки, если подует невесомый, едва заметный ветерок. Если неспешно брести по свежей, сочной, как спелый плод, траве, любуясь красотою, сотворенной Господом, можно вдыхать полной грудью и этот воздух, и, мнится, даже запахи снега с далеких ледников.
Но если бежать, бежать изо всех сил, чувствуя, что того и гляди отнимутся ноги, что мышцы, кажется, вот-вот лопнут, как перетертая веревка — тогда воздух жжет легкие, а дыхание обдирает горло, словно точильный камень. Ноги запинаются, и каждый шаг по каменистой жесткой земле превращается в пытку, перед взором стоит пелена, не давая видеть путь, а вместо ночной тиши слышится звон и шум крови в ушах. Споткнувшись и упав, надо подняться, невзирая на то, что любое движение отзывается жаркой болью, и бежать дальше, не оглядываясь, не мешкая, выжимая из себя последние силы…
То, как стрела входит в тело, поначалу почти не чувствуется; просто что-то толкает в спину, сбивая равновесие, дыхание перехватывает, и лишь потом приходит боль — на вдохе. Подкашиваются ноги, и тело падает на колени, руки упираются в прохладную траву, и от удара ладонями в землю боль в груди взрывается горячими острыми осколками, разрывая легкие и мешая дышать. Сквозь туманную мглу в глазах видно древко стрелы, прошившей тело насквозь — темное, влажное от крови; видно, как сбегают крупные капли к наконечнику и там исчезают, не падая наземь, будто холодный гладкий металл вбирает их в себя, точно губка. Но, быть может, это уже бред — бред умирающего сознания, последнее, что удается увидеть перед тем, как упасть на траву и больше не шелохнуться…
И вновь тишина, не нарушаемая ни топотом ног, ни надсадным дыханием, и луна, яркая, точно забытый на столе светильник, равнодушно озаряла пустые холмы и неподвижное тело в траве. Протянулась и истекла долгая, как вечность, минута, миновала вторая, третья, и из темноты донесся далекий звук шагов — неспешных, спокойных, и можно было бы подумать, что это кто-то мучимый бессонницей вышел на свежий воздух, однако до ближайшего жилища по меньшей мере час пути таким вот безмятежным шагом…
Человек, явившийся из темноты, приблизился к убитому и остановился, в задумчивости легонько покачивая луком в руке. Несколько мгновений он стоял не шелохнувшись, потом наклонился и, упершись в мертвеца ногой, выдернул стрелу.
В коридорах было тихо и почти безлюдно, лишь однажды навстречу попался сосредоточенный хмурый инквизитор. С Куртом он поздоровался, назвав его по фамилии; лицо показалось смутно знакомым, однако имени собрата по служению вспомнить не вышло, посему Курт лишь приветственно кивнул, на ходу пробормотав неразборчивое. Лишь когда следователь остался далеко позади, вспомнилось расследование три или четыре года назад; Нюрнберг… или Аугсбург?.. или Франкфурт… Сколько их было, городков и городов, в которые забрасывала судьба и начальственная воля…
У тяжелой двери за поворотом Курт остановился, глядя на двух далматинцев, лежащих у порога. Завидя его, псы поднялись с места, молча, без лая или даже рыка сделав шаг навстречу; он протянул к ним открытые ладони, затянутые в потертые кожаные перчатки, и терпеливо дождался, пока собаки обнюхают его руки и пыльную, пропитавшуюся солнцем одежду.
— Благодарствую, — произнес Курт насмешливо, когда далматинцы нехотя, будто исполняя какой-то обязательный, но давно наскучивший ритуал, вяло махнули хвостами и отступили назад, давая ему пройти.
— … и так всегда, — успел услышать он, открыв дверь, и голоса внутри смолкли.
Курт приостановился на мгновение, окинув быстрым оценивающим взглядом людей у стола. Кардинал Сфорца явно физически утомлен и морально вымотан; изборожденное глубокими морщинами лицо осунулось и со времени прошлой встречи явно похудело. Без малого восемь десятков лет — не шутки, а когда приходится держать на собственных плечах громаду Конгрегации — удивительно, как до сих пор старик еще держится, даже учитывая тот немаловажный факт, что половину забот папский нунций уже сгрузил на преемника… Преемник, к слову, тоже не в лучшем виде: взгляд мрачный, лоб нахмуренный, под глазами заметные круги, да и в целом Антонио Висконти, каковой младше майстера инквизитора на семь лет, выглядит сейчас как хорошо потрепанный жизнью следователь после недели оперативной работы. Да и Бруно, сидящий чуть в сторонке, одарил вошедшего взглядом тяжелым, точно скала, и таким усталым, будто за последние пару суток духовник не спал, не ел и даже не присел ни на минуту…
— И что же «всегда»? — осведомился Курт, переступив, наконец, порог, и прикрыл дверь за собою.
— Всегда опаздываешь, Гессе, — недовольно отозвался Висконти и, вздохнув, кивнул: — Не стой караулом, садись, коль уж соизволил почтить нас своим присутствием.
— Я не могу опаздывать, — возразил Курт; помедлив, подтянул к себе табурет, уселся и вытянул гудящие ноги под столом. — Я не член Совета, и ваши заседания меня, вообще говоря, не касаются.