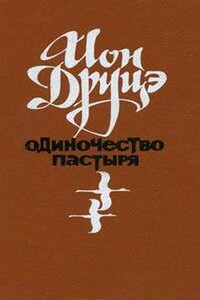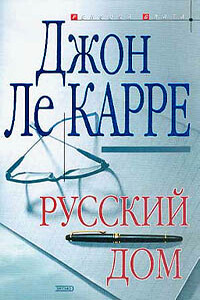Повесть
Просил же ее не умирать, но она не смогла – не захотела или не сумела. Процесс зашел слишком далеко. Семь лет спустя, возвращаясь к записям и почеркушкам того времени, я отчетливо понимаю, что иначе быть и не могло. Последние советские пенсионеры являлись чемпионами по выживанию, но девяностые годы истощили запас их терпения и ополовинили состав. Множество куда более молодых людей навсегда осталось в 1999 году, как в отцепленном вагоне. Им не довелось переступить порог миллениума – с его пустыми страхами и дурацкими надеждами. Нас пугали сбоем компьютерных сетей из-за обнуления цифири в дате и грядущими катастрофами (они, и вправду, произойдут вскоре, только не по этой причине). Турагентства вовсю заманивали на острова в океане, чтобы первыми встретить рассвет 2000 года. И что бы ни говорили здравый смысл и простой арифметический расчет, новое тысячелетие действительно наступило в 2000 году – когда посыпались нули, будто в кассовом или игральном автомате, и выскочила впереди двойка.
А до того на Пушкинской площади Москвы крутилась на оси денно и нощно бутылка пива «Балтика», размером не уступавшая статуе поэта, и над неоновыми коврами рекламы американских сигарет, хавки и пойла, натянутыми на фасады, светился электронный счетчик: «До 2000 года осталось столько-то дней!». Магазины «Наташа» и «Армения», здания газет «Известия» и «Московские новости», гибрид кинозала «Россия» с казино – с гирляндами лампочек и великанскими бутафорскими кочанами несуществующих растений, – а посреди всего этого Пушкин, как
Каменный Гость или Ревизор, застывший в окружении прозрачных и призрачных ледяных скульптур. Москва неудержимо превращалась в столицу мультяшек.
Моя жена звалась Наташей, предыдущая была армянкой, и той зимой я сочинял сценарий телефильма к 200-летию Пушкина, которому дал название «Медный Пушкин» – ретивый режиссер позже без спросу пришил ему зачем-то хвост: «Страстная седмица». Бог нам всем судья – сколько звезд и лычек на погонах у каждого, только с неба и видно.
Но я не о лычках, а о дальних подступах к смерти матери.
За девять месяцев до того. Зима
Той зимой Россия корчилась и отходила после дефолта. Как и большинство знакомых, я потерял работу еще осенью. Отчетливо помню инфернальное ощущение той поры – когда позакрывались оптовые рынки, банки и банкоматы, в супермаркетах опустели полки и витрины, осталось одно аварийное освещение под потолком, а продавщицы принялись опять всласть хамить покупателям и перелаиваться с истеричными, взвинченными старушками. Что называется, мастерство не пропьешь. Весь лоск и блеск последнего пятилетия слиняли за неделю, вместо изобилия – висячие замки, вместо мишуры – тусклая и злая нищета. Это был философский момент в новой истории России, и он достоин того, чтобы его запомнить. Не революция и беспорядки, а вот так, почти на голом месте: «где стол был яств, там гроб стоит».
Между тем, тот год заканчивался для меня более чем удачно. После нескольких лет пребывания в Москве у меня вышла, наконец, первая книга, и одно это оправдывало всю авантюру репатриации – переезда в сорокалетнем возрасте на голое место, на птичьих правах, как головой в прорубь. Я пожинал теперь плоды и грелся бы в лучах признания в литературных кругах, если бы все не было так скверно. Но всегда оказывается позднее, что это и была твоя жизнь, а возможно, и счастье. Эта книга, в которую не вошла ни одна «толстожурнальная» публикация, особенно пришлась по вкусу старикам, юнцам и рецидивистам. Невообразимо, но она вышла, когда экономика пребывала в стадии клинической смерти. Я бы сверзился со стула, будь моложе, когда по возвращении в Москву из разоренного Львова и меланхолических осенних Карпат вдруг услышал по телефону:
– Как, ты не знаешь еще, что твоя книжка издана?! Она уже поступила в магазины.
Гонорар я взял натурой и нанял машину, чтобы отвезти двести экземпляров книги домой – да, именно «домой», в съемную квартиру, за две с лишним сотни долларов в месяц. У лифта незнакомая соседка посоветовала мне не пытаться вызвать малый лифт, а воспользоваться прибывшим грузовым, и я послушался. Не успел я закинуть в его кабину несколько пачек книг, как дверь стала закрываться. Я попытался остановить ее ногой, обутой в ботинок на толстом протекторе, однако дверь не собиралась останавливаться и намертво его защемила. Я попросил свою доброжелательницу нажать на кнопку вызова лифта. Мне это никак не помогло, зато спустился малый лифт. Сочувственно покачав головой, женщина дала мне тогда другой совет – вызвать аварийную, после чего укатила на свой этаж. Я же остался стоять на одной ноге, с зажатой в тисках другой, и двумя пачками долгожданной книги в руках. В таком положении я не мог дотянуться до кнопки лифта, а связаться с лифтерной можно было только из кабины. Меня душила ярость и одновременно разбирал хохот. Это был хороший урок, и он не сделал меня лучше. Увы.
Местность, где мы поселились в конце самой длинной ветки метро, звалась Ясенево. Кроме названия и чистого воздуха, у этого спального района имелось лишь два достоинства. Полуразрушенная усадьба Узкое, с каскадом прудов, и Битцевский лесопарк, в котором тогда еще не завелся серийный маньяк, – чудное место для лыжных прогулок по пышному снегу, скрывающему бытовой мусор. Но удивительным образом из этой комфортабельной ночлежки на несколько сот тысяч человек выветрилась та сухая злоба имперских задворок, памятная мне еще по советскому времени, когда сюда не дотягивалось метро: всегдашние очереди за водкой, автобусы, редкие днем и набитые под завязку утром и вечером, пустынные прачечные, с перерывами на обед и бесконечными переучетами. Странное дело – люди и среда обитания могут оставаться почти теми же, небо все то же и театр облаков на нем, а атмосфера меняется каждое десятилетие, будто состав воздуха становится другим.