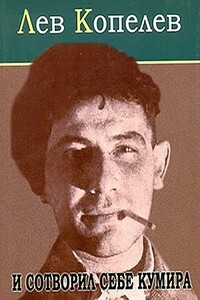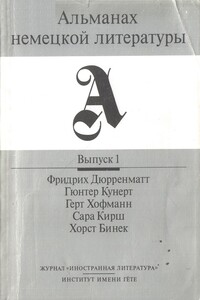5 апреля 1945 года. Ясный солнечный день. Такой, когда уже с утра очевидно, что жизнь прекрасна и все должно быть хорошо. Госпиталь размещен в немецкой деревне к юго-востоку от Данцига в просторных кирпичных домах. Меньше болит спина, зашибленная бревном от взорвавшейся баррикады в Грауденце, слабее головные боли. Прошло больше двух недель с тех пор, как меня исключили из партии и отчислили из Политуправления 2-го Белорусского фронта с должности «старшего инструктора по работе среди войск и населения противника». Меня отправили в госпиталь с температурой, слепила жгучая боль, я еле ходил, согнувшись крючком, кряхтел, сдерживая стоны.
Но в это утро я был почти здоров…
Пришел комиссар госпиталя, худой, широколицый майор. Мы были давно знакомы, его жена работала у нас в канцелярии. Он и раньше несколько раз заходил, сочувственно выслушивал рассказ о том, как меня исключали за «притупление бдительности, выразившейся в проявлении жалости к немцам и настроений буржуазного гуманизма». Он обещал эвакуировать меня в Москву: «Там и медицина основательней починит, и с партийными делами разберутся».
И в это утро он пришел, как всегда, спокойно-приветливый, немногословный. Позднее вспомнилось, что он смотрел как-то в сторону и спешил.
— Вот что, мы, значит, перебазируемся. Есть приказ, чтоб всех, кто ходячие, выписать: кого в тыл, кого, чтоб догоняли на попутных. Так вот ты, значит, отправляйся пока в резерв, я тебе машину дам, а потом уже с ними, с резервом значит, догонишь нас на новом месте и там долечим, а может, все же удастся, в Москву отправим.
Я переоделся, получил свой чемодан, пистолет, шинель и «личное дело» — большой пакет за пятью сургучными печатями.
— Полежи пока на моей койке, пока, значит, машина освободится… Вот приемник, трофейные газеты…
Комната была солнечная. Из открытой форточки дышало теплом — влажным, пахнущим землей. В немецких газетах панические сводки: «Жестокие… оборонительные бои… противнику удалось продвинуться», отчаянные призывы и нелепые в своем постоянстве рекламные объявления; я настроил приемник, слушал музыку…
Без стука вошли двое: капитан и старший лейтенант.
Вежливо козырнули.
— Простите, это вы товарищ майор Копелев?
— Да.
— Наш генерал просит вас зайти к нему насчет работы.
— Из какого вы отдела?
В штабе фронта в каждом отделе и управлении — авиации, артиллерии, саперном, танковом — были свои разведотделы, везде нужны были офицеры, владевшие немецким. Меня знали многие штабисты, и я не удивился, что вот пришли, даже не дождавшись, пока доберусь до резерва. Капитан ухмыльнулся.
— Да ведь нашему брату все равно, где служить.
И это не удивило. Разведчики любят напускать таинственность.
— Что ж, пошли… Это недалеко? Можно шинель внакидку? Как тут у вас комендант, не цепляется?
— Два дома отсюда… Комендантских не встретим.
Широкая улица. Каменные дома с палисадниками, большими дворами. На дороге подсыхающая разъезженная глина. Проезжают грузовики, «виллисы», снуют солдаты. Вошли через двор в один из домов.
Большая комната: обычная сутолока штабной канцелярии. Кто-то сказал:
— Генерал просит подождать несколько минут…
Прошли в другую комнату, большой стол посередине, стоят и сидят несколько офицеров и солдат. Старший лейтенант, молодой, круглолицый, добродушный, спросил бесхитростно:
— Что это у вас за пистолет, товарищ майор?… Кабур какой-то чудной.
— Бельгийский браунинг. Первый номер.
— Четырнадцатизарядный?… Можно поглядеть?
Мне не впервой было встречать любопытный и даже завистливый интерес к большому, тяжеловатому, но очень приладистому и надежному «бельгийцу». Достал, протянул. И в то же мгновение с другой стороны капитан, который привел меня, с ухмылочкой, и уже совершенно другим казенным голосом:
— А теперь прочитайте вот это.
Куцая бумажка — печатный бланк «Ордер на арест».
Первое ощущение — удар по голове, по сердцу… Потом недоумение и злая обида.
— Зачем же вы пистолет так выпрашивали? Неужели боялись, что я стрелять стану.