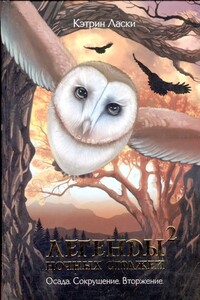Михаэль Эбмайер
Холодные ключи
Перевод с немецкого Нины Бескровных
Матрас не продаётся, мы им столько лет пользовались. Его можно только так отдать, даром. Но я не отдам. Вам–то, может быть, и да, ну а мне, знаете ли, это не всё равно. Я его оставляю себе, а вы новый матрас уж где–нибудь подыщете. Так на следующий день в ушах Матиаса Блейеля звенел его собственный голос. Что он не мог перестать об этом думать, было ещё понятно. Но вот почему в голове застряли именно эти несуразные слова? «Уж где–нибудь подыщете», какой–то глупый, мещанский тон. Молодые люди пожали плечами, подхватили и потащили днище кровати через узкую прихожую в подъезд, вернулись за каркасом и заглянули ещё разок, попрощаться. Двое молодых людей, хотя молодыми они и не смотрелись. Один — с жидкими волосами, другой — пышногривый, но со скверной кожей и в затемнённых очках с очень толстыми стёклами. Матиас Блейель ни о чём их не спросил, уж не студенты ли они, к примеру, и они тоже ничего не спрашивали. Говорили только по делу — вот кровать, бук, как и обещано, все детали здесь, можете проверить, вот каркас, вот днище, всё как в газетном объявлении. Торговаться они не пытались, хотя он наверняка пошёл бы навстречу. Когда они ушли, он взял с телефонного столика деньги, две купюры по пятьдесят и одну двадцатку, и спрятал их в бумажник, а бумажник — во внутренний карман пыльника. Потом снова зашёл в спальню и уставился на осиротевший матрас, метр шестьдесят шириной, косо лежавший на ламинатном полу рядом с новой, узкой кроватью. Один угол задрался на стену. Как небрежно брошенный на пол матрас для гостей. Как будто те ребята вернутся переночевать. Что за нелепая мысль. Матиас Блейель невольно улыбнулся, обрадовался, что ещё может улыбаться, и наклонился над матрасом. Пятна. На матрасы всегда садились пятна, даже в идеальном хозяйстве, они закрадывались исподволь и не выдавали своего происхождения. Он снял длинный чёрный завитой волос. Илькин? Его грудь сжалась. Может, это того молодого человека в очках с толстыми стёклами. Как там его, он и забыл, скорее всего, даже и не услышал, как они представились.
Матиас Блейель направился в кухню, не выпуская из пальцев волос (куда он делся потом, вспомнить уже не удалось). На полке с пряностями, склянками с маслом и уксусом откопал бутылку виски, подаренную коллегами на сорокалетие, откупорил её и, хотя время ещё было раннее, принял стаканчик, прямо на голодный желудок. Безо всякого аппетита, стоя у стола, сжевал два ломтя хлеба с ветчиной, подлил в стакан ещё и взял бутылку с собой в спальню.
Квартира без Ильки. Ему показалось, что он заметил это только теперь — увидел матрас и впервые почувствовал, как её не хватает. Он постоял на пороге, опустился на матрас и прижался спиной к стене. Там, за шторами, вяло тянулся тусклый июньский день, и не тёплый, но душный, небо недвижимое, сероватое. А Блейель видел перед собой Ильку. Так явственно он не видел её с развода, а может, и вообще никогда. Как она постоянно приглаживала волосы, даже когда они и не лезли в лицо, останавливалась на прогулке, если хотела сказать что–то важное, как, расхохотавшись, запрокидывала назад голову, и оттопыривала нижнюю губу, когда плакала. А сидя с ним за столом, искала его ногу и зажимала её своими. Но зачем ему сейчас эти картины? За что такое мучение? Тогда всё было не напрасно, всё шло хорошо, они были вместе. Илька, когда она впервые села листать каталог «Фенглер» и всё хихикала, что такая одежда пришлась бы по вкусу её престарелой тетушке. Илька в плетеном кресле, Илька со специальной кастрюлькой для спаржи, которую ей непременно сдалось купить, Илька в постели, больная, Илька в постели, здоровая, восемь лет с Илькой, два из них — в этой самой квартире, на этом самом матрасе. Что толку теперь от этих картин? «Матиас, ты самый кошмарный тупик в моей жизни». Что только ни скажешь в пылу гнева. Но если потом ничего другого не сказали, или, по крайней мере, ничего существенного, то под чертой оставались именно эти слова. А потом они увиделись уже на суде.
Квартира не изменилась, если не считать пары вещей, которые она забрала с собой. Картины так и остались на стенах, фотография — они вдвоём на пляже — на шкафу в гостиной, её посуда в буфете, её плетёное кресло, косметика на полочке в ванной. И другие вещи, каждая на своём месте, как будто она просто на минуточку вышла. Самый кошмарный тупик её жизни жил себе дальше, один–одинешенек, оставив всё так, словно они не расставались. Утром уходил на работу, ранним вечером возвращался, почти в полном душевном спокойствии. Без злости, без слёз, без размышлений. Жил себе и жил, будто ничего не случилось.
И вот сегодня, в этот непримечательный июньский день, восемь лет совместной жизни неожиданно, болезненно оборвались. Двуспальная кровать, они нарочно купили её для новой квартиры. Он долил в стакан виски.
Почему же его так подкосил этот момент? Напугал так, что даже за бутылку ухватился (вообще–то он никогда не пил, разве что кружку пива после работы, и то в порядке большого исключения) — ведь он сам дал объявление в газету? Кровать, два престарелых молодых человека. Разыграл театр, чтобы перехитрить самого себя, иначе он так и не признал бы, что всё кончено. В шкафу гостиной стояла пухлая папка, набитая бумагами с бракоразводного процесса, а за фотографией с пляжа валялась записка, на которой она неохотно и неразборчиво нацарапала новый адрес в Мюнхене. Вроде бы та квартира принадлежала её родителям. Мюнхен, район Швабинг. Почему же он не позвонил и не спросил, не нужна ли кровать ей? Сколько раз они говорили по телефону в последнее время, раза три? Не больше. Холодно и сквозь зубы. Когда же он, наконец, переоформит договор по съёму квартиры. Должно быть, счета так и приходили на её имя. Конечно, если бы у них был ребёнок, разговоров было бы куда больше. Но если бы ребёнок был, может, они и не развелись бы. Если бы Илька не потеряла ребёнка. Потеряла, да. Он однажды тоже использовал слово «тупик» в несвоевременной ситуации (постоянный контроль цикла, настырный гинеколог, вечные анализы крови, содержание прогестерона, её одержимость). Что ему и вышло боком. Он плеснул ещё. Конечно, думать об этом периоде теперь уместнее, чем о соприкосновении ног под столом или спаржевых кастрюлях. Несколько выкидышей (спонтанные аборты, комментировал настырный) — это серьёзное испытание для любого брака, вот так и получилось. Горе, разрушенная надежда стать матерью (или продолжать жить и после смерти), наверное, в этом и была причина. Но всё–таки вспоминать тяжёлое время было горько и тошно, настолько тошно, что даже потрясение от проданной кровати — не повод ворошить прошлое. Может быть, кому–то в Мюнхене и удастся сделать Ильке ребёнка, несколько лет у неё в запасе ещё оставалось — не говоря о решимости и силе воли. Он будет за неё рад. Только не надо тонуть в жалости к самому себе. В доме, полном Ильки, но без Ильки. В доме, который вдруг сделался невыносимым. Как ему прожить здесь хоть день? Как он прожил здесь последний год? Скорее, скорее найти милосердное забвение, хоть бы и в стакане виски. Последний глоточек — и он встанет с матраса.