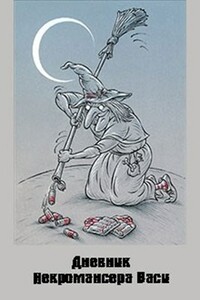— Ты чё орешь, как потерпевший?
Пацан и впрямь распяливал слюнявый рот и ревел на выдохе басом, протягивая к Даньке грязные, свезённые ладони. На вдохе он надрывно всхлипывал.
Даня отпихнул ногой громоздкий спортивный велосипед — жалобно тренькнул звонок. «Надо же, девять скоростей», — подумал Данька и вынул из кармана залежалый носовой платок, присел, очистил протянутые к нему ладони от земли и крови, вытер зелёную соплю под носом.
— Вставай! Ну, вставай же! — пришлось дернуть пацана за воротник куртки, поднимая на ноги.
Поднявшись, тот оказался вдруг плотным белобрысым пареньком ростом едва не выше Даньки — только округлое лицо с замершей на щеке слезой оставалось детским. Даня даже отшатнулся от неожиданности.
— О, мать! — выругался он и отступил еще на шаг.
Парень вытер огромным кулаком распухший нос, оставив грязный след над верхней губой, и потопал поднимать велосипед.
Данька ретировался за столик, достал пачку «Мальборо» и закурил, искоса поглядывая на нового знакомца. Тот плёлся к столу, приволакивая велосипед — колёса выписывали восьмерки — сел на лавочку напротив, уложил руль на колено и принялся тренькать звонком.
У Даньки аж руки взмокли: не любил он убогих, не хотел связываться. Но тот попросил, все так же, басом: «Дай сигарету!» — и Данька дал.
— Ковбой Мальборо! — крикнули сзади, и чьи-то руки дернули высоко поднятый воротник кожаной куртки, — Кто это с тобой?
— Харлей Девидсон, — буркнул Данька, поправляя ворот, как было, и понял вдруг, что вот так, запросто, получил погоняло и прописку в новом городе.
Ковбой колесил на своем велике по всему микрорайону, без устали дергая язычок звонка. «Трень-трень» — раздавалось с раннего утра до поздней ночи. Петлял он без толку и смыслу — мать давно уже не просила его съездить в магазин, собес или заплатить за квартиру. На все деньги он покупал сигарет — самых дешевых, «Приму» или «Беломорканал» — и дымил, не прекращая, круглые сутки. Когда денег не хватало, он разгружал вагоны на станции. Силён он был как медведь. Иногда они ходили на станцию вместе — Данька загорелся собрать мотоцикл, а присылаемых отцом башлей едва хватало на комнату в университетской общаге да еду.
Ковбой, а вместе с ним и Данька, был вхож во все тусовки района. Запросто подкатывал на своем велике, подсаживался. Клал руль на колено и просил закурить — никто не давал, и тогда он вынимал папиросы. Стоило Даньке подойти через пару минут и пожать Ковбою руку, как никто уже не спрашивал, кто он, и какого хера ему нужно — теснились, уступая место. Ковбоя уважали за силу и побаивались отчего-то. Но движняк на районе был мутен: малолетки глушили водку, обкуривались травой и трахались, как кролики, не разбирая, кто с кем, и хотя тут же, у ЦУМа среди бела дня постреливали, а ларьки-однодневки горели каждую ночь, район оставался подозрительно глух и слеп к происшествиям. Трёп никогда не выходил за рамки шмотья, боевиков и музыки. Нет, тема не была под запретом — просто беспредел, творившийся в городе, будто подернутый мороком и оттого неразличимый, не был никому интересен. Это создавало определенные проблемы, и скоро Данька начал испытывать ощутимое беспокойство. Отец присылал всё меньше денег, намекая, что пора бы уж сыну найти себе работу.
Дело сдвинулось с мертвой точки в декабре. Сперва Ковбой нашел ему квартиру.
Рано утром, в начале пятого принялся тренькать звонком под окнами — общага заворочалась, продрала глаза и разразилась трехэтажным матом. Едва успевая отвечать на ругань, Данька пулей оделся, слетел по лестнице, поскользнулся на крыльце, схватился за железные перила и понял, что забыл надеть перчатки. От души выматерился.
Не проронив и слова, Ковбой оттолкнулся от бордюра и покатил по утрамбованному насту. Данька, ориентируясь на едва заметный в тонком слое жёсткого, свежевыпавшего снега след, да на редкое «трень-трень» впереди, скоро засеменил следом, пытаясь отогреть руки в карманах тонкой кожаной куртки.
Ковбой ждал его у хрущобы за пару кварталов от общаги. Велосипед стоял уже прикованный к низенькому заборчику палисада тяжелой черной цепью с огромным амбарным замком. По тёмным пролётам с выкрученными лампочками они поднялись на пятый этаж и остановились перед опечатанной дверью.
Данька поглядел на Ковбоя — тот, как и всегда, стоял, чуть распялив безвольный рот с прилипшей к нижней губе папиросой — пальцем потрогал покрытую инеем, с синими печатями, бумагу. На пальце остались замерзшие, осыпавшиеся чернила. Дверь была опечатана больше года назад. Данька потянул уголок листа, и клей прозрачными кристалликами зашуршал вдоль по стенке. Замка не было, в дырку на его месте кто-то забил деревянные чопы. Дернул — из квартиры дохнуло холодом. Стены в прихожей были ободраны. Санузел засран — несмотря на мороз, дух оттуда шёл тяжелый. На кухне не нашлось ничего, кроме старой плиты, где в алюминиевой миске лежала пара почерневших шприцов. Данька замер на пороге — передёрнул плечами, прогоняя мелкую дрожь, и не стал заходить.
Спальня была пуста, а в центре зала — разодранным ватным одеялом, лентами весёленьких, в цветочек, обоев, да плашками выдранного из пола паркета — красовался вовремя затушенный кем-то костёр, а через окно с выбитыми стёклами заглядывала в комнату заиндевевшая инеем ветвь дерева.