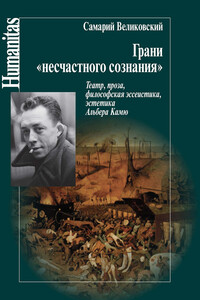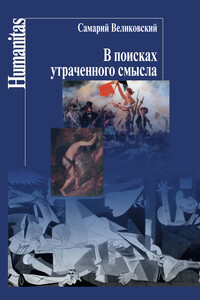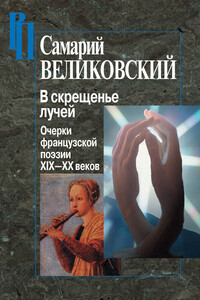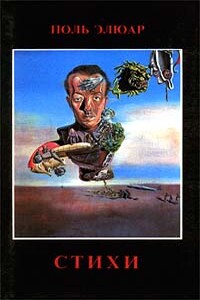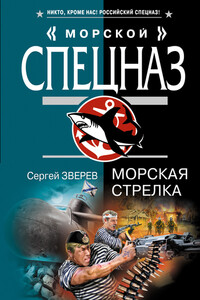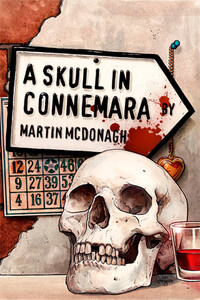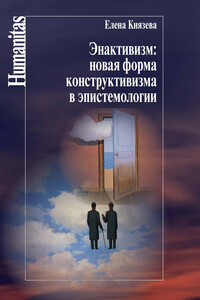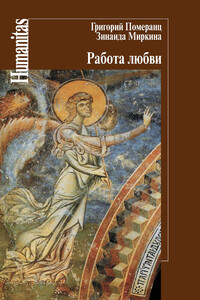На стыке словесности и философии
Предварительные замечания
С давних пор во Франции совмещение в одном лице собственно мыслителя и мастера слова – отнюдь не редкость: достаточно вспомнить Монтеня, Паскаля, Дидро, Руссо, чьи имена с равным правом значатся и в историях философии и в историях литературы. Философия Вольтера может, конечно, нравиться или нет, но укорять его за «философичность» повестей нелепо.
А между тем философичность тех французских писателей XX века, чьи книги отмечены печатью экзистенциалистских умонастроений, нередко считают если не смертным грехом, то существенным изъяном. Молчаливо предполагается, что указать на нее достаточно, чтобы вскрыть творческие слабости Сартра, или Камю, или Симоны де Бовуар, или Габриеля Марселя и тех, кто к ним близок. Подобные упреки раздаются столь часто и с такой непререкаемостью, что поневоле возникает впечатление, будто сама по себе серьезная философская подготовка и тем более работа над философскими трудами противопоказаны писательскому дарованию и было бы гораздо предпочтительнее для тех же Сартра или Камю, садясь, предположим, за очередную вещь для театра, выбросить из головы все высказанное ими незадолго до того в теоретическом труде.
Простодушие таких отлучений философии от литературы могло бы, пожалуй, даже умилить, не угрожай они сделаться чем-то вроде расхожего и не подлежащего сомнению предрассудка. Предрассудка, очевидно несуразного в России, стране, где среди самых крупных философских умов прошлого столетия выделяются как раз писатели Достоевский и Толстой, так что позже множество весьма незаурядных «чистых» мыслителей, у нас и за рубежом, без конца возвращались к их вымышленным повествованиям как к неисчерпаемому интеллектуальному источнику.
Что касается французов, то у них вообще расстояние между философией и литературой куда короче, чем где бы то ни было. Недаром эссеистика, находящаяся на границе этих двух областей, – прославленное детище именно французского духа, и хотя в иных краях она подчас приносила отдельные блистательные плоды, тем не менее нигде не составляла столь же неотъемлемой и всегда присутствующей части словесности. Недаром выкладки Декарта, Копта, Бергсона поразительно быстро брались во Франции на вооружение писателями, получая всякий раз не просто отклик в их взглядах, но и преломление в самой их стилистике.
Следует добавить, что сама философия писателей сартровского круга и их предшественников (в частности, Мальро) – нечто очень отличное от того философского умозрения, где научная строгость доводов, а значит, непреложная общеобязательность заключений почитается превыше всего. Старое русское слово «любомудрие», если отбросить приставший к нему оттенок насмешки, в случае с «философией существования» кажется весьма кстати.
Не углубляясь слишком в прошлое в поисках отдаленных предтеч, вроде Сократа или, ближе к нам, Паскаля, можно назвать зачинателем этой манеры философствования датского «любомудра» («частного мыслителя», как он себя именовал) середины XIX века Сёрена Киркегора. Для этого философского писателя, ревностно искавшего в очищенной от интеллектуалистских примесей самозабвенной и тихой вере якорь душевного спасения от бед неладно устроенной общественной и личной жизни, само понятие истины, в противоположность неизменной мишени его нападок – Гегелю, сопрягалось не с доказуемой рационально-логическим путем достоверностью для всех, вообще не с познанием сущности окружающих вещей, а в первую очередь с уяснением духовных и жизненных запросов отдельной, частной и неповторимой личности – прежде всего сокровенных тайн единичного существования самого мыслителя. Киркегоровская истина – не безличное знание, поддающееся точной проверке и понуждающее безропотно ему внимать, а душевная подлинность, возможная и в заблуждениях. Она обретается в момент высокого просветления, когда человек, погрузив взор исключительно внутрь собственного Я, раскрывается самому себе в своей обнаженной «самости», обычно спрятанной под суетными масками, рядиться в которые побуждает непроизвольная забота о том, чтобы выглядеть и поступать «как все», казаться таким, каким нас хотели бы видеть другие. По сути, это была скорее лирическая, чем научная установка для ума, знакомая нам по «Запискам из подполья» и тесно смыкающаяся с исповедальным поиском своей правды. Не случайно Киркегор не выносил ученых трактатов, а тяготел по преимуществу к дневниковым и эпистолярным сочинениям, где он вкладывал свои раздумья в уста вымышленных лиц, каждое из которых наделено псевдонимом, имеет нечто от него самого, хотя ему не тождественно, и где он заставлял их дополнять, а иногда и опровергать друг друга по ходу сопоставления не столько разных способов понимать мир, сколько равных способов в нем быть[1].
В XX столетии у приверженцев восходящего к Киркегору взгляда на истину его заветы встречаются в причудливом переплетении с иными воззрениями, от ницшеанства с его подменой последовательных доказательств произвольными броскими афоризмами, с его резким разведением истины и смысла, познания и истолкования – до весьма тщательно выстроенной и оснащенной необходимыми аналитическими инструментами феноменологии Эдмунда Гуссерля. Картезианский интеллектуализм и систематичность «наукоучения» Гуссерля о последних предпосылках всякого знания не раз толкали его преемников в Германии и во Франции к попыткам – не лишенным, если вдуматься, известной доли парадокса – возвести на шаткой почве личностного самосознания основательные теоретические постройки, претендующие на безоговорочную всеобщность. Тогда вместо нестройных киркегоровских заметок возникали обстоятельные труды. Однако жизненный срез, на каком они были сосредоточены, задавался все той же, а подчас и еще более острой неприязнью к любым попыткам искать ключ к отдельному, будь оно материальным или, особенно, одушевленным, где-то «позади» его непосредственно созерцаемой «явленности», в структурах и сущностях, когда они установлены наукой, или оглядывающимся на нее философским разумом.