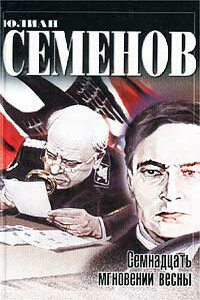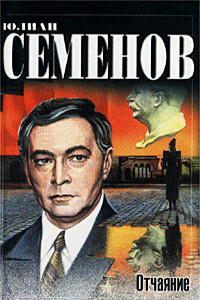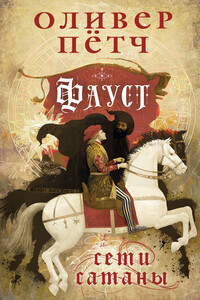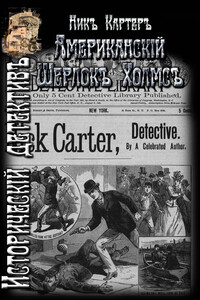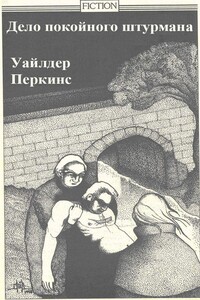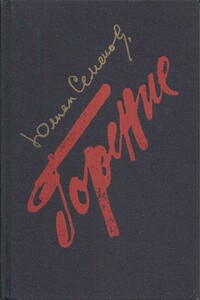Билет на варшавский поезд в вагон первого класса передал Савинкову член боевой организации социалистов-революционеров «Адмирал» в Москве, на конспиративной квартире, в доме при церкви святого Николая, на Пыжах, в Пятницкой части.
Проснулся Савинков за два часа до прибытия поезда в варшавский «двожец глувны», спросил у проводника рюмку водки, икры и сказал подогреть калач так, чтобы хрустел. Когда проводник накрыл на столике, Савинков дал ему золотой и предупредил, что водки, видимо, выпьет еще
— всю дорогу бил озноб, и не оттого, что простудился, а в ожидании дела, ради которого ехал на родину, туда, где прошли детство и юность.
Последние месяцы были тяжелы, невыразимо тяжелы. Партия была накануне раскола, полиция начала — через своего сотрудника Татарова, которого и ехал убить Савинков, — провокацию против совести эсеров, создателя боевой организации Евно Фишелевича Азефа, обвиняя его в сотрудничестве с Департаментом полиции. Савинков боготворил Азефа, считая его подвижником революционной идеи, ему была сладостна манера Евно: ленивая всевластность, щедрость, фатализм. Тут же вспомнил свою недавнюю стычку с Азефом: они тогда жили в Гельсингфорсе, готовили террор против московского генерал-губернатора Дубасова. Бомбы собирали Валентина Попова и Рашель Лурье. Попова ждала ребенка. Савинков был против того, чтобы она ехала в Москву.
— Вздор, мой дорогой, сущий вздор, — лениво растягивая гласные, ответил Азеф. — Какое тебе дело — брюхата или нет? Она взяла на себя ответственность, вступила в боевую организацию — надо пить чашу до дна.
— Мы отвечаем не только за нее, — возразил тогда Савинков, — она деталь операции, мы ставим под угрозу дело. Она в особом положении, она не может до конца контролировать себя. Мы не вправе быть жестокими к своим…
— Сантименты, — отрезал Азеф. — Не играй рыцаря — мы делаем кровавое дело, сообща делаем кровавое дело во имя той женщины в белом, имя которой революция…
Савинков порой возмущался Азефом, но по прошествии минут или часов убеждался в суровой его правоте: коли уж начал — иди до конца, отбросив привычные нормы морали, испепелив себя всепозволенностью, приняв бремя вандальской, устрашающей жестокости.
На съезде партии, который собрался в Иматре, в гостинице «Туристен», принадлежавшей «симпатику» Уго Серениусу, Азеф был подавлен, мрачен, грозился уйти из террора, если партия всем своим коллективным авторитетом не очистит его имя от возмутительного подозрения в связях с охранкою.
Савинков трижды говорил с членами ЦК Черновым, Натансоном и Ракитниковым — те санкционировали полную свободу действий, не дожидаясь даже возвращения из-за границы члена ЦК Баха, который закупал партию химикатов для бомбистов. Все полагали, что уход Азефа из террора невозможен, особенно на этом этапе.
Савинков, посещая митинги, с юмором слушал социал-демократов, которые говорили о необходимости вооруженного восстания, о разъяснительной работе в войсках, о том, что террор — отжившая форма борьбы, которая в нынешних условиях куда как более выгодна царизму, пугающему массы «злодейством» революционеров. Савинков не считал нужным заниматься вопросами подготовки восстания; «толпа бессильна: быдло, лишенное организации и единой воли; именно террор — та форма, которая не может не породить всеобщий страх, а страх самопожирающ».
Азеф настаивал, чтобы Савинков тем не менее вошел в сношения с социал-демократами.
— Я не хочу говорить с математиками от революции, — отвечал Савинков. — Они верят в слово, я — в бомбу.
— Ты член партии, мой помощник по террору, я удивлен, что ты смеешь обсуждать приказ ЦК, — протянул Азеф. — Партия, ЦК, я — мы должны знать все обо всех, чтобы выступить в решающий момент, отдавая себе отчет в том, кто есть кто, будь то кадеты или эсдеки. Важно, за кем пойдут.
— Евно, ты ставишь меня в трудное положение, — ответил тогда Савинков, — я не могу не подчиниться решению ЦК. И твой приказ для меня абсолютен. Но неужели ты серьезно думаешь, что толпа может что-либо? Декабрь на Пресне — это же крах утопий о вооруженном народе! Пятьсот мастеровых с наганами понастроили баррикад и возомнили себя парижскими коммунарами…
Азеф пожал плечами:
— Если бы наши товарищи из путиловской организации смогли взорвать железнодорожный мост и семеновцы остались в Питере, я не знаю, как бы Дубасов удержал Москву, Борис… Кто предал наших путиловцев? Вот что меня мучит… Какое падение, какая страшная грязь — отдавать товарищей палачам…
… Отдал охранке путиловцев-эсеров он, Азеф. Положение было критическим, в департаменте сказали: «Пусть взорвут любого генерала, но эшелон семеновцев должен пройти в Москву, Евгений Филиппович» («Фишелевичем» в нос не тыкали, щадили). Азеф потребовал за эту отдачу три тысячи рублей: «Слишком рискованно, всем известно, что подготовительную работу вел я, придется оплачивать комбинацию». (Комбинация-то была вздорной: дал своим приказ, обговорил время, снабдил динамитом, поцеловал исполнителей, пообещал, что революция запишет их имена на скрижали, потом поехал в отдельный кабинет ресторана «Метрополь», что держал постоянно, позвонил дежурному ротмистру по железнодорожной жандармерии, бабьим голосом сообщил, что на двадцать седьмом километре бомбисты станут взрывать путь и валить мост в двадцать два по нулям. Немедленно был отправлен конный отряд. Исполнители чудом избежали ареста. Проскочили семеновцы, залили Пресню кровью.)