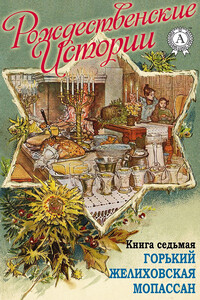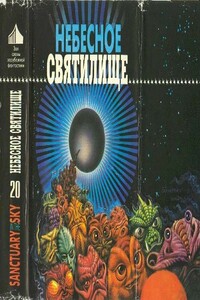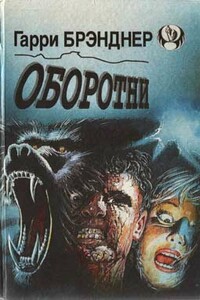Родители моего героя были очень скромные люди и потому, пожелав остаться неизвестными обществу, положили своего сына под забор одной из самых глухих улиц города и благоразумно скрылись во тьме ночной, очевидно, не ощущая в своих сердцах ни гордости своим произведением, ни столько сил, сколько нужно для того, чтоб создать из своего сына существо, на родителей его не похожее.
Последнее соображение, – если только они им руководствовались в ту ночь, когда решили передать своё дитя на попечение общества, – а что они решили именно так, на это указывало пришпиленное булавкой к тряпкам, в которые они его окутали, лаконическое сообщение на клочке почтовой бумаги: «Крещён, зовут Павлом», – последнее соображение, говорю я, рисует родителей младенца Павла людьми и не глупыми, ибо прямая обязанность громадного большинства отцов и матерей заключается именно в том, чтоб всячески предохранить своих детей от тех привычек, предрассудков, дум и поступков, на которые они, родители, затратили весь свой ум и всё сердце.
Младенец Павел, когда его ткнули под забор, некоторое время относился к этому факту как истый фаталист, лежал неподвижно и хладнокровно сосал сунутую ему в рот жвачку из хлеба, завёрнутого в кисейную тряпочку, а когда это ему надоело, то он вытолкнул её изо рта языком и издал некоторый звук, почти что не поколебавший тишины ночи.
Ночь была августовская – тёмная и довольно свежая, – чувствовалась близость осени, и над младенцем Павлом через забор, под который его ткнули, свешивались гибкие сучья берёзы; на них уже было много жёлтых листьев, и немало таких листьев лежало на земле вокруг младенца Павла, а порой – очень часто – они беззвучно отрывались и медленно падали на землю, раздумчиво кружась в воздухе, влажном и полном густых испарений, – днём шёл дождь, а к вечеру взошло солнце и успело сильно согреть землю.
Иногда листья падали и на красную рожицу младенца Павла, еле видную в густой бахроме лохмотьев, в которые его плотно завернула заботливая рука матери; младенец Павел от этого морщился, моргал глазами и возился до той поры, пока лохмотья не развернулись, и не открыли его маленькое тельце влиянию ночной сырости. Тогда он, почувствовав себя свободным от пут костюма, поднял ногу, потащил её в рот и стал сосать, всё ещё молча, но с очевидным удовольствием.
Маленькая оговорка, если позволите! О поведении младенца Павла во время жития его под забором я говорю а priopi, сам я сему свидетелем не был; это видело только небо, тёмное августовское небо, прекрасное, глубокое, щедро усыпанное золотыми звёздами и, как всегда, холодно равнодушное к делам земли, несмотря на то, что она так много льстит ему устами своих поэтов и так горячо молится сердцами верующих людей.
Если бы я видел его, младенца Павла, там, под забором, то я, конечно, преисполнился бы горячим негодованием к его родителям, глубоким состраданием лично к нему и, немедленно позвав полицию, отправился бы домой с чувством искреннего уважения к себе; всё это, несомненно, сделал бы и всякий другой на моём месте, сделал бы, я твёрдо верю в это. Но в то время там никого не было, и, таким образом, жители того города, в котором происходило описываемое мною, упустили очень удобный случай проявить свои лучшие чувства, каковое проявление, как известно, составляло бы преобладающее и любимое занятие людей, если бы с ним не конкурировало так успешно нечто, прямо противоположное ему.
Но в то время там никого не было, и младенец Павел, наконец, иззяб. Он выпустил изо рта ногу и стал нарушать тишину ночи сначала тихими всхлипываниями, потом громким плачем.
Ему не пришлось заниматься этим особенно долго, через полчаса к нему подошёл человек, плотно закутанный во что-то, делавшее его похожим на большой двигающийся пень, – подошёл, наклонился и густо прогудел над ним «ах, подлые», ожесточённо плюнул в сторону и, подняв его с земли, стал закутывать в тряпки и осторожно, поскольку мог, водворять себе за пазуху, одновременно с этим оглашая воздух пронзительным, рокочущим свистом, который совершенно поглощал плач младенца Павла.
– Ище, ваше благородие, одного подшвырнули, дьяволы! Теперича третий будет за лето-то. И анафемы только! Блудят, блудят и… опять блудят. Тьфу вам!
Это был ночной сторож Клим Вислов, человек строгой нравственности, что, впрочем, не мешало ему быть горчайшим пьяницей и горячим приверженцем трёхэтажной эрудиции.
– Тащи его в часть!
Это приказание было дано околоточным надзирателем Карпенко, первым донжуаном в третьей части города, имевшим рыжие усы в стрелку и неотразимые серые глаза, которыми он в кратчайший срок мог испепелить сердце любой барышни, – и это приказание относилось к будочнику Арефию Гиблому, человеку мрачному, сутулому, любителю одиночества, книжек и певчих птиц и страшному ненавистнику многословия, извозчиков и женщин.
Он взял младенца Павла на руки и понёс было его, но вдруг остановился, развернул тряпки, закрывавшие ему лицо, несколько мгновений посмотрел на него, ткнул своим пальцем в пухлую щёчку ребёнка и, наклонившись к нему, скорчил страшную рожу и щёлкнул языком.