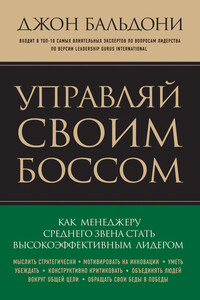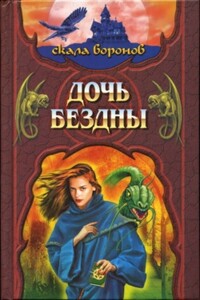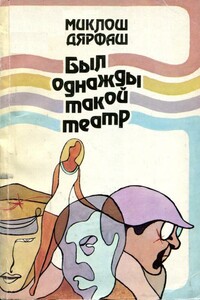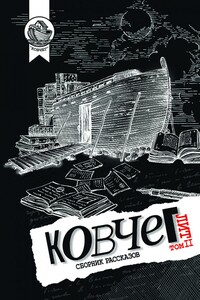Посвящается Йамилет, Александре и Анне, замечательным женщинам, которых посчастливилось встретить моим братьям
Жюль не стал, как обычно, одергивать Джима: “Нет, только не она, Джим!” Он сказал: “Осторожней, Джим! Решайте сами, ты и она!” “Разумеется, осторожней, — подумал Джим. — Но чего опасаться?”
Анри-Пьер Роше Жюль и Джим
В лошадях ему нравилось то же, что и в людях. Бурный ток крови, разжигавший неугасимый пожар. Он любил и почитал пламенные сердца и ощущал в себе загадочный и неукротимый порыв. Он твердо знал: как бы ни сложилась его жизнь, он всегда будет повиноваться этому властному неумолчному зову.
Кормак Маккарти Кони, кони…[1]
В эту ночь — сколько их таких было? — я не сплю… Мысленно я возвращаюсь назад и снова думаю о нас, о том, что нам предстояло пережить и что мы пережили. Я пытаюсь понять, что заставило нас поступить так, как мы поступили. В какой момент жизнь дала нам шанс и почему мы им не воспользовались? Но изменить наш путь было бы равнозначно отречению от себя. Мы остались себе верны.
В день, когда все началось, — хотя правильней сказать “вернулось”, — мне даже в голову не могло прийти, что однажды вечером в моей берлоге, в моей норе, в этой деревянной избушке, вдруг кто-то ласково коснется моей щеки кончиками пальцев и это произведет эффект бомбы замедленного действия и не только изменит мое будущее, но и перевернет мое восприятие прошлого.
Это было в июне года четыре назад, если не больше. Точный день не помню, зато все остальное помню, как будто это было вчера, и теперь я этого уже никогда не забуду. Число — даже если по календарю начну искать — все равно не назову. Скажем так: это было в начале июня, потому что коровы начинают телиться в январе, а заканчивают в апреле, когда уже свежая трава пошла, — а та корова, к которой меня вызвали, как-то уж совсем припозднилась.
Когда я приехала на ферму, теленок успел высунуть передние ножки, но у коровы был узкий таз и она никак не могла разродиться. Кесарево делать было поздно, спасать новорожденного тоже. Я быстро сделала эмбриотомию. Глаза и щеки у меня щипало, я утирала пот плечом и локтем и вспоминала учителя с его густыми бровями, которые впитывали едкие капли. Мне ужасно не хватало его, когда случались подобные истории.
Дальше день протекал спокойно, но когда мне позвонил молодой животновод, в воздухе вдруг повеяло грозой. Одна из его молочных коров не вернулась на дойку. Мы нашли ее на лугу, она неподвижно лежала в траве и тяжело дышала. Я оставила фары включенными, чтобы что-то видеть, вставила катетер в яремную вену и ввела ей кардиотонический раствор с витамином С. Подняв глаза, я увидела, что в небе собираются черные тучи, озаряемые вспышками зарниц. Налетели первые порывы ветра, резкие, как будто кто-то в плечо толкал. Раствор струился медленно, капля за каплей. Я пошла к машине, взяла брезентовую накидку, вернувшись, протянула ее фермеру. Тот внимательно посмотрел на меня, и улыбка, первая за все время, озарила его лицо. У него были глубоко посаженные глаза, такие черные, что зрачков не видно. Щеки ввалились, рубаха и брюки болтались. Судя по всему, заботиться о нем было некому. Привычное одиночество сельских жителей. Пустыня.
Я ехала по спящему городку, когда пробило десять. Откинув верх машины, я полной грудью вдыхала влажный воздух, пахнущий молодыми платановыми листьями — терпкий запах, похожий на запах спермы. У меня было ощущение, что я одна в целом мире, от которого меня отделяет запотевшее ветровое стекло.
Домой я вернулась совершенно разбитая и, несмотря на голод, от которого сводило живот, мечтала только об одном: поскорее влезть под горячий душ, а потом — в кровать. Открывая ворота, я заметила в кухне свет. Уехала я утром, когда было еще темно, — наверно, забыла погасить. В голове, где-то позади глаз, пульсировала боль. Снова сев в машину, я прижалась затылком к подголовнику и стала массировать ладонями лицо, растирать пальцами виски. Когда выходила из машины, у меня вдруг захрустели колени. Одним словом, едва держалась на ногах.
Дверь оказалась незапертой. По телу пробежала волна адреналина — приблизительно то же ощущение, как если оступишься на лестнице и в последний момент уцепишься за поручни: еще миг — и полетела бы вверх тормашками. Из дома, из освещенной кухни, не доносилось ни звука, ни шороха.
Потом из глубины освещенного пространства, заслонив собою свет, возникла темная фигура и молча пошла на меня. Я едва успела сглотнуть, как кто-то заключил меня в объятия и сжал так, что я едва не задохнулась. Это был Джио.
Я сидела на ступеньках лестницы под залепленным скотчем стеклянным навесом, и коленки мои все еще дрожали, а гроза, висевшая в воздухе, по-прежнему готова была вот-вот разразиться, но медлила. Я следила за ним глазами: он встал, потянулся и пошел на кухню мне за сигаретой. Он был моего роста, тощий, с длинными руками и ногами, похожий на быстро выросшего молодого пса. Я стала заправлять в пучок выбившиеся пряди. Тут он вернулся, наклонился и вставил мне в губы сигарету, застав меня с беспомощно поднятыми руками — поза человека, который сдается. Он говорил, стоя передо мной и глядя на меня сверху вниз, разгоряченный и нервный, а я смотрела, как он открывает и закрывает рот, и мне казалось, что я вижу большую рыбу в аквариуме. Я не слышала, что он говорит, — я думала о тысяче разных вещей. О том, когда я его видела в последний раз. О его отце. О его матери. О своей матери — по странному сцеплению ассоциаций. Переведя дух, я попросила его начать все сначала. Он повторил последнюю фразу: