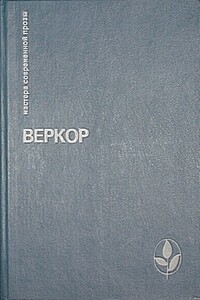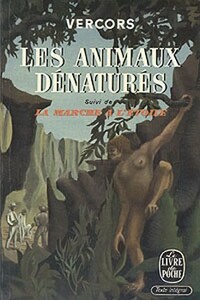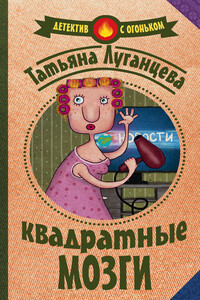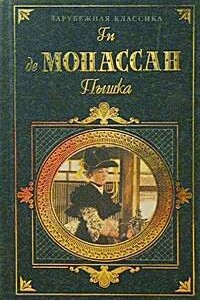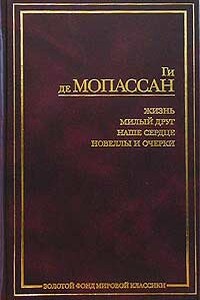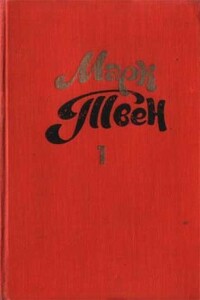Памяти Бенжамена Кремье
В той или иной мере мы все, не правда ли, испытываем чувство сострадания к чужому несчастью. Моему другу Рено это чувство было всегда в высшей степени присуще. Вот за это я его и люблю, хотя не всегда хорошо понимаю.
Я его знаю так давно, что мне просто трудно вспомнить то время, когда он еще так или иначе не участвовал в моей жизни. Я хорошо помню, когда я его впервые увидел. Помню, как он вошел в класс отца Клопара — долговязый мальчуган с удивленным и внимательным взглядом. Он назвал себя, и мне послышалось: «Ремулад». То же, видимо, услышал Клопар, который заставил его повторить свое имя. Я снова услышал «Ремулад» и первое время простодушно считал, что его так и зовут. В действительности его звали Улад, Рено Улад. Он слегка проглатывал слоги.
Его посадили за мной через два или три ряда. Он, конечно, прекрасно видел, как школьник, сидевший впереди него, схватил меня, шутя, за воротник куртки и стал трясти, как трясут сливу. Но тут вместо слив полетели во все стороны чернильные брызги, украсившие тетради моих соседей. Поднялся шум, началась потасовка, виновником был признан я, и спустя минуту я стоял в коридоре, с тревогой прислушиваясь к шагам, пытаясь определить, не идет ли директор. Сердце мое кипело от незаслуженной обиды.
Дверь из класса отворилась, и вышел Ремулад. Он, улыбаясь, подошел ко мне. Странная это была улыбка: одновременно напряженная и насмешливая — смесь негодования и торжества. Он сказал:
— Я заставил его выставить меня за дверь.
— Ты?! Нарочно?
— Да, — ответил он. — Ты понимаешь, я все-таки не мог выдать товарища. Но что выгнали тебя — этого я совсем не мог стерпеть. Вот я и сделал так, чтобы меня тоже выставили.
Я уже забыл, как он этого добился. (Кажется, он просто стал насвистывать какую-то песенку.) Но я не забыл, что дружба наша началась именно с того дня, — не потому, что он совершил этот поступок из-за меня (он ведь тогда меня не знал), а потому, что его поведение раскрыло мне его характер. Я глубоко понимал всю серьезность такого поступка, совершенного в первый же день поступления в школу. Я оценил смелость, с которой он пошел на риск попасть навсегда в список «отпетых».
И действительно, в тот день он показал себя таким, каким остался на всю жизнь: всегда готовым взвалить на собственные плечи тяжелый груз людской несправедливости, всегда готовым платить за чужие грехи.
Можно себе представить, чем были для него четыре года, которые Франция провела в подполье. Не один, а десятки раз я был вынужден удерживать его от непоправимых, безрассудных поступков. То он хотел нацепить желтую звезду, то собирался предложить себя в качестве добровольного заложника. Но в конце концов он понял всю бессмысленность таких форм протеста. Другие страдали и худели от голода — он худел, пожираемый бессильным, скрытым гневом. Излишне говорить, что в Сопротивление он бросился очертя голову. Не знаю, каким чудом он до сих пор жив. Боевая деятельность и опасности, которым Рено постоянно подвергался, не погасили его живого воображения, наоборот, приносили ему каждый день новую пищу.
Я имел обыкновение ежедневно навещать Рено в его домике, в Нейи. Он радовался мне. Я служил как бы клапаном для всего, что переполняло его измученное сердце. Не однажды доставалось и мне — какими только словами не обзывал он меня! После этого ему становилось легче.
На этот раз я шел к нему с печальной новостью. Всю дорогу я колебался, сообщать ее или нет. В моей нерешительности было много малодушия — ведь так или иначе нужно было обо всем ему рассказать. Переступив порог его дома, я собрался с силами.
Если бы я знал… но я не знал.
Он ничего мне не сказал. Об ужасной резне в деревне Орадур я узнал только позднее. В то самое утро Рено собственными глазами видел этот невероятный, до жути простой отчет префектуры; он какое-то время ходил по рукам, а потом исчез. Никакого официального опровержения затем не последовало. Я думаю, я уверен: Рено ждал меня, чтобы взорваться. Он был очень, очень бледен. Но меня самого так терзало то, о чем я собирался ему сказать, что я не придал этому значения. Он увидел, что я расстроен, и стал ждать.
— У меня есть вести… — я кашлянул, — дурные вести…
Мне понадобилось время, чтобы собраться с духом.
Наконец я смог выговорить:
— …о Бернаре Мейере.
Он сказал только: «А!», — как говорят: «Я так и знал». Лицо его сохраняло странно замкнутое выражение. Я думал, что он разволнуется, и это ледяное спокойствие было для меня неожиданным. Ни ему, ни мне Бернар Мейер, в сущности, не был другом, но его все любили. Всем, кто с ним сталкивался, он внушал любовь, всем, исключая людей завистливых и посредственных. Как никто другой, он откликался на чужую беду. А все ли было сделано, чтобы вырвать его из Дранси? Мы хорошо знали, Рено и я, что нет — не все. И оба знали — почему, и знали, что гордиться тут нечем.
— Он умер, — сказал я. Неподвижный и холодный взгляд Рено сковал меня. — Он умер в Силезии, в лагере, — продолжал я с похвальной настойчивостью. После долгой паузы я произнес наконец три слова, всего лишь три слова, но — мы теперь это хорошо знаем — сколько страданий, пыток, мук и ужасов за ними скрывалось! Я произнес три лаконичных слова, напечатанных в извещении о кончине: «от упадка сил…»