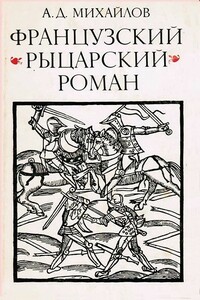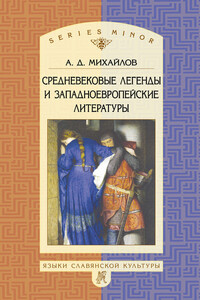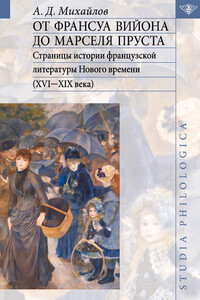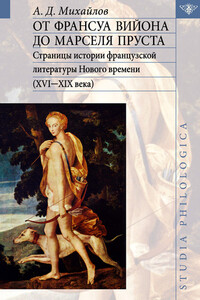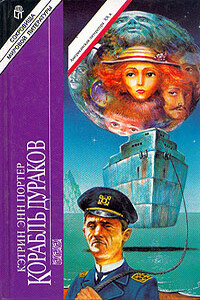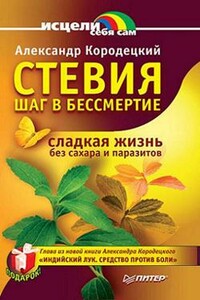Эта книга — о французском средневековом романе, романе рыцарском, или куртуазном.
«Рыцарский» и «куртуазный» — понятия, строго говоря, не вполне совпадающие. Тем не менее мы будем употреблять их как определения жанра средневекового романа, не отдавая предпочтения ни одному из них. Оба они понимаются нами комплексно — как указание на социальные истоки произведения, его идеологическую наполненность и круг его тем и образов. В известной мере — на сферу его бытования, по крайней мере первоначально.
Под рыцарским романом мы будем понимать связное сюжетное повествование с достаточно развитой фабулой, в стихах или прозе, родившееся в феодальной среде, отражающее ее вкусы и интересы и выбирающее в этой же среде своих героев. Причем эти герои могут выступать не обязательно в своей реальной жизненной обстановке, но в обстановке псевдо-исторической, фантастической, условно ориентальной и т. д. — в зависимости от тематики того или иного произведения или цикла. Указанные принципы помогают отграничить (что все-таки не всегда просто) изучаемый нами литературный жанр от других средневековых повествовательных жанров, которые отличаются от романа либо своей комической установкой и иным набором персонажей (фаблио), либо своим размером и зависящим от него способом организации сюжета (лэ), либо своим аллегоризмом и иносказательностью (например, любовно-аллегорическая поэма) и т. д.
К этому надо добавить, что основным принципом, позволившим роману сформироваться как самостоятельный жанр, мы считаем «принцип углубления во внутреннюю жизнь», о котором, в частности, так настойчиво писал Томас Манн[1]. В условиях средневековья это «углубление» было, конечно, весьма ограниченным, еще самым предварительным и реализовывалось немногими наивными и примитивными средствами, поэтому о «психологизме» рыцарского романа следует говорить лишь как о тенденции, о творческой установке, хотя, думается, в данном случае это даже важнее ее конкретных результатов. К тому же это «углубление» было неадекватно религиозной самоуглубленности и сосредоточенности и объективно отражало зачатки секуляризирующих импульсов, возникавших в культуре средних веков. Этот принцип «углубления во внутреннюю жизнь» проводит резкую грань между рыцарским романом и рыцарской эпической песнью, «жестой», хотя и между ними есть точки соприкосновения и даже переходные формы.
Если не учитывать этого важнейшего принципа и не видеть его в куртуазном романе, то можно прийти к отрицанию средневекового романа как самостоятельного жанра. Такое отрицание — не новость. Скажем, у Г. Лукача это отрицание было обусловлено его социологическими установками, ибо ученый считал роман детищем буржуазной эпохи, «буржуазным эпосом», неким продуктом деградации подлинного эпоса[2]. Эта позиция восходит к точке зрения Гегеля, рассматривавшего роман как «современную буржуазную эпопею» *.
Наиболее отчетливо это отрицание средневекового романа проявилось в ряде работ В. В. Кожинова, который связывает появление романа с широко развившимся в эпоху Возрождения бродяжничеством. Он, между прочим, пишет: «Образ странствия, мотив непрерывной подвижности человека — не только внешней, материальной, но и духовной, психологической — становится одной из основ структуры жанра». И далее: «...в рыцарском эпосе господствует, напротив, пафос устойчивости, неизменности основных качеств человека и мира. Сами события, сдвиги сюжета только подтверждают неподвижную незыблемость героя и породившей его почвы — приключения проносятся, как волны мимо утеса» [3]. На это можно было бы, в частности, возразить, что мотив странствия — и чисто материального, и психологического — является доминирующим в рыцарском романе, по крайней мере в рыцарском романе определенного типа, а приключение, «авантюра» подчас меняет не только судьбу героя, но и его характер. Г. Н. Поспелов верно заметил, что «увлеченный своей идеей считать первой ступенью развития романа авантюрно-плутовской роман В. В. Кожинов явно игнорирует новаторские жанровые тенденции в авантюрно-рыцарском романе, всячески стараясь отождествить его со старым героическим эпосом типа «Песни о Роланде» или «Песни о Сиде» в. Далее ученый справедливо пишет о существенных сдвигах в идеологии феодального общества в момент рождения романа, о «дифференциации личного начала», о росте интереса к индивидуальной судьбе персонажа, вне его племенных, родовых и корпоративных связей, что нашло отражение в романе.
Ошибочная точка зрения В. В. Кожинова может быть в какой-то мере объяснена односторонне воспринятыми идеями М. М. Бахтина, преувеличивавшего, на наш взгляд, гротескно-комическое и пародийно-травестирующее начало в процессе формирования романа[4] (на что недавно указал Д. В. Затонский[5]), а также его неполной осведомленностью в данном вопросе [6].
Получилось так, что исследователи конструируют некую гипотетическую модель рыцарского романа, оперируя которой, они высказывают свои суждения об этом жанре.
При этом исходят из молчаливо допускаемого предположения о полной незыблемости и застылости жанровых образований в культуре средневековья. Тем самым рыцарский роман эпохи средних веков предстает как что-то однообразное, раз и навсегда установленное, неподвижное и однотипное. Но «многообразие форм — не отличительная черта какого-то определенного этапа истории литературы, в частности истории романа» 10. Поэтому было бы ошибкой не замечать обилия разновидностей и романа средневекового. Между тем во многих работах говорится о рыцарском романе вообще, и если, например, в книге А. Я. Гуревича и, посвященной иной теме, это делается мимоходом и автор не претендует на глубокую характеристику жанра, то столь же недифференцированный подход к рыцарскому роману мы находим в такой серьезной работе, как книга Б. А. Грифцова «Теория романа». Ее автор строит свои оценки не на конкретном изучении текстов, а на обобщающих пересказах памятников романного жанра, к тому же излагающих содержание лишь ряда его прозаических версий. Лишь этим источником можно объяснить некоторые, по меньшей мере односторонние, суждения автора. Например: «В романах Круглого Стола внутренняя тема сбивчива, вернее несколько внутренних тем, перебивая друг друга, обрываясь, никогда не обнаруживаясь во всей своей силе, создают пеструю основу; действие не сосредоточено, а разбито на разной силы группы, всегда остается еще возможность романа не только гораздо более пространного, по и более интенсивного» 12. Это относится, как увидим, лишь к вполне определенному этапу эволюции рыцарского романа, а именно — к прозаическому роману XIII в. Неточна также мысль Б. А. Грифцова об авантюре как «принципе строения романа» 13 (ибо далеко не все рыцарские романы имели в основе своей структуры авантюру), да и само определение этого понятия («странное происшествие, причинно необъяснимое событие, нечто чудесное, внезапное, немотивированное» 14) явно односторонне.