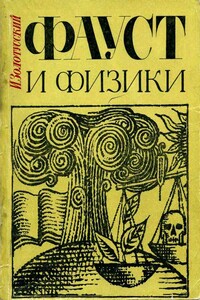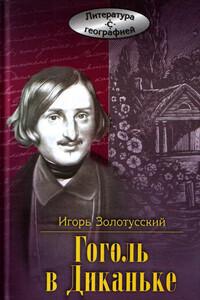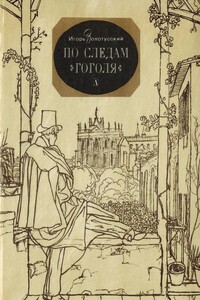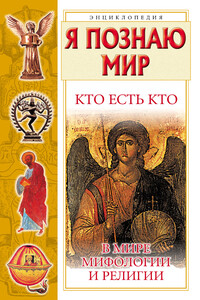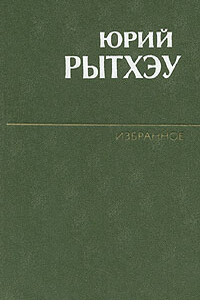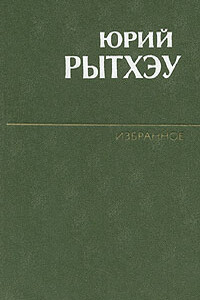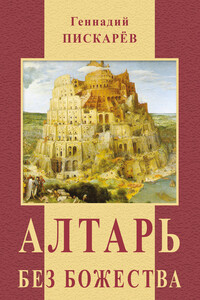Книга о старом Фаусте и новых физиках — о человеке науки в искусстве
Эта книжка родилась в спорах о физиках. Были такие несколько лет назад. Спорили о преимуществах физики над литературой, точных наук — над «неточными».
Официально этот спор назывался «о физиках и лириках».
Спор был смешной, но в нем был смысл. Говорили как будто о физиках, а думали о другом. Думали о нашем взгляде на мир, на наше положение в этом мире, измененном наукой.
Конечно, на физиков была и мода. Атомщики, термоядерщики — они внушали благоговение. Однажды Эйнштейн, приветствуемый толпой, спросил стоящего рядом Чарли Чаплина: «За что они нас приветствуют?» Чаплин ответил: «Меня они приветствуют за то, что я им понятен. Вас — за то, что они Вас не понимают».
Было и это.
Но было и желание понять: что несет с собою в мир физика? Не наука физика, а точное знание, которое она представляет. Что это: благо или не благо, и что это меняет в нас, в человеке?
«Старый» вопрос, он вновь возник в середине 60-х годов. Собственно, на этот вопрос есть ответ еще в Библии. «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь», — говорит Экклезиаст.
Да, физики несли и печали. Взрыв в Хиросиме лег тенью на весь послевоенный мир. Бомбу сбрасывали не физики, но изобрели ее они. И люди задали себе вопрос: «А могли они этого не делать?» Могущество точного знания стало очевидно. Его опасность — тоже.
Люди поняли, что от физиков слишком многое зависит. Они уже не были тихими гениями лабораторий. Они влияли на баланс мировой политики.
Мода на физиков соединялась с надеждой на них.
Литература отреагировала на это тут же. Появились пьесы о физиках, романы, стихи. Появилась «тема ученого» в литературе.
Она всегда была, а тут получила злободневный блеск. Она, как Золушка, превратилась в принцессу. И все воскликнули: «Какая красавица! Какая красота!»
Заспорили, как показать физика в литературе.
Одни говорили, что ничего особенного тут нет. Пиши человека и напишешь физика. А что касается опыта, то писала же старая литература о людях.
Старому — старое! — восклицали другие. — А физиков еще не было. Не было ни физиков, ни их науки. И писать о них надо совсем по-новому.
Вот в этом-то — что новое, а что старое — я и хотел разобраться. Я подумал: действительно, в «старое» время физиков не было. То есть были, но таких, как сейчас, не было. Должен оговориться, что под физиками я здесь и дальше подразумеваю людей точных наук. После А-бомбы их всех стали называть физиками. И споры относились к ним всем.
Так вот, сказал я себе, таких физиков не было. Одно дело пробирки и колбы в келье Фауста, другое дело — циклотрон.
Но Фауст-то уже был…
И тут я вспомнил, что и гётевский Фауст был ученый, что и он — «физик» тоже. В списке книг, которые я должен был перечитать, появилась и трагедия Гёте. Я подумал, что она внесет ясность в «историю вопроса». Но вышло иначе. Гёте пересмотрел мой список. И я понял, что пишу книжку о «Фаусте», что она сама пишется, увлекая меня.
Так получилась эта книжка о «старом» Фаусте и о «новых» физиках. Физики, конечно, занимают в ней меньшее место. Меньшее — по количеству раз, где упоминается слово «физики». Но эта книжка — о них. Я перечитал «Фауста», помня о них. Помня, что именно они заставили меня его перечитать.
Позже я нашел такие слова у одного из ученых. «Хорошо знайте старое и научитесь в пределах этого старого видеть то, что до вас уже видели другие. Только тогда вы начнете по-настоящему понимать существо нового в своем деле и отличать его от старого… Новое начинается на границах известного!»
Эти слова поддержали меня.
Это драма, драма идей.
А. Эйнштейн
Кто такой Фауст?
Я философию постиг,
Я стал юристом, стал врачом,—
говорит он о себе в своем первом монологе. Фауст — врач, философ, алхимик. Он ни в коем случае не специалист, не ученый узкого профиля. О Фаусте сейчас сказали бы, что он универсал — представитель вымирающей династии ученых. Ибо кто сейчас может быть и химиком, и врачом, и философом сразу? Это грозит дилетантизмом.
Наука, которой занимается Фауст, собственно, и не наука. Его пробирки и колбы — чистый антураж. Фауст даже не прикоснется к ним. А потом и вовсе сбросит мантию и уйдет за чертом.
Фауст как будто бы добывает золото, но не оно — конечная цель его. Цель эта — «все тайны мира», «вся мира внутренняя связь».
Профессионально Фауст не выдерживает никакой критики. Современный физик вправе спросить его: а что ты знаешь? Какая проблема тобой исследована? Какая конкретная истина открыта?
Но в том-то и дело, что Фауст не добивается конкретной истины. Он ученый не по профессиональному признаку. Он ученый, потому что мыслит, потому что творит в сфере духа, потому что дух — это Фауст, пытающийся осознать себя в этом мире. Он потому и расстается со своими опытами, что они неспособны объяснить «всю мира внутреннюю связь». Физический результат его не устраивает, он хочет духовного. Для Фауста наука неотделима от нравственности, от идеала.
В лице Фауста мы имеем дело не с самой наукой, а с последствиями ее. Это человеческие последствия знаний, — знания, преобразованные в судьбу.