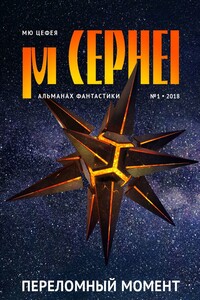1.
Я не хотел становиться демиургом этого камерного хрупкого мирка. Не хотел. Зачем мне это? Но тот, что смотрит на мир из моих глаз, не спрашивая на то моего разрешения… Он очередной раз не спросил моего разрешения. Так всегда бывает. И я спохватился только когда все листы были уже исписаны с обеих сторон.
Так что мне не повезло.
Некоторое время я сидел молча за столом, пытаясь сообразить, что же мне теперь делать. А потом понял, что вопрос собственно не стоит. Адрес был записан в самом начале, на четвертой странице, на второй строчке снизу.
Мне открыли не сразу. Но открыли. Молча посторонились, пропуская в кухню, налили крепкого (а как же!) чаю, высыпали в миску горсть сухарей. Потом сели напротив, не сводя с меня тоскливого взгляда.
— Странно это все… — сказали мне. — Ну да что уж теперь. Только зачем тебе все это?
Я ответил, зачем, я был тогда еще молодой и глупый. Я объяснил про предназначение и зов крови, про живые и мертвые души, про настоящую жизнь и уютное гниение.
— Да-да, — сказали мне. — Конечно…
Я сказал, что это великая книга и что я не ее автор, а скорее она — мой. Мне покивали.
Потом я снова повзрослел. И объяснил:
— Текст уже живет. Я не могу освободиться от него, его уже прочитали сколько-то там сотен человек, на его основе придумали сколько-то там десятков песенок и сказок… В конце концов, мне в лицо смотрели сколько-то там пар глаз. И им всем нужен был этот текст. А я уже ничего не могу сделать. Я уже…
— Все правильно, — сказали мне. — Вот и у нас тоже… На, почитай…
Листы были разрозненные, аккуратно отпечатанные, совсем не похожие на мои — забитые тесным бисерным почерком. Внешне — совсем не похожие.
А пара абзацев из тех что там были — оказались частью именно того, что так и не дописал я. Их дописали за меня. Кто-то.
Но это была еще ерунда.
Ведь следующая страница была попросту обо мне.
…Ждать как исцеления бьющей наотмашь тоски — и так и не дожидаться, забыть, что такое бессонница и видеть только спокойные сны или не видеть их вовсе, одеваться только в нормальную обычную одежду, петь редко и с извиняющейся усмешечкой, не иметь власти над душами и хорошо выучить психотехники, и самое главное — считать, что так и надо жить…
Там все это было.
Там все было обо мне.
Там все было правдой, кроме последних строк.
Эти страницы тоже врали. Врали, как врал вечно Шевчук, чье мощное протяжное «Ты не один!» стояло в воздухе, выливаясь из форточки в доме напротив.
Я один. Я — такой — один. На свете. Один.
2.
Когда Дорога, небо и рассвет, когда врата распахнуты вовне, шагай вперед по спутанной траве, шагай и не заботься обо мне. Я делал текст. Я просто делал текст! У всех свои Дороги и миры. А Автор остается в пустоте, по вечным этим правилам игры. Там пир — горой! Ах, этот пир горой! Стыд, зависть и брезгливость на троих. Они там знают все, что я герой, что я — и выше и сильнее их, что я Дорогу видел наяву, что я мирам и тайнам господин, что я по-настоящему живу, что я…
Один.
Да нет, что я…
Один.
3.
Нервно, затяжку за затяжкой. Я должен. Кому, черт возьми я должен? Сейчас возьму вот все эти листочки, и… зажигалочкой. И станет мне хорошо и покойно. Придумаю себе новое лицо покрасивше, чтобы скрыть следы от проказы и оспины порохового ожога на лбу и щеках, и они полюбят это лицо, оно будет достойно любви, это лицо, честное слово!..
А листочки — зажигалочкой. И все. Никто не прочитает их больше, никто не шагнет через них, как за порог. Никто не сделает мне больно. А то, что же получается, они, читающие мою книгу, могут выходить по прочному тракту моих строк вовне, им доступно все, что я, как в шкатулку, вложил в бумажные листы, они — хозяева этой книги, а я…
А я — ее раб?
Раб, накрепко прикованный памятью о том, что когда-то тоже был хозяином?
Хорошенькое дело…
4.
По черным буквам над пустынным сном, по прочным площадям моих страниц, шагай! — и помни только об одном: не стать одним из сотен тысяч лиц. Их, слабых от беды и от любви, их, сильных по заказу и на час, их, знающих, что сказку отравить достанет кровостоков на мечах… Иди! Но в путешествии своем не стань, прошу не стань одним из них! Я заклинаю призрачным огнем черновиков сгорающих моих!..
Лишь почерк помнит, как рвалась строка. И все. Об этом даже струны врут. И значит, ухожу к черновикам. Не мне стоять средь многих на пиру.
Смешно. Я счастлив, мне дано судьбой, везуч, обласкан, молод, весел, сыт, живым закончил свой последний бой, с кокетством говорю про боль и стыд, чего еще?… Не знаю. К черту. Нет…
А текст живет, живет как сам бы жил. Завидую. Я видел лишь во сне ту сказку, что я там наворожил…
5.
— Вот так-то… И читаю я теперь все эти их стишочки и песенки про то самое, что сам когда-то придумал… А они ведь даже не маскируются, они растащили меня на эпиграфы…
— Тебе что-то не нравится?
— Еще бы!
— Ну и что?
— В том-то и дело… Что ничего… Все равно ничего уже не изменится.
6.
В отчаянном желаньи сделать шаг, с размаху бьюсь о стенку бытия. И вот — моя крылатая душа, и вот вокруг нее бескрылый я. Скажи, что делать? Честность не порок. Я честен в пустоте перед собой. Не вижу смысла в чтеньи между строк и знаю, что проигран этот бой. Я слишком стар? Я слишком долго ждал? Что сталось с этим искренним юнцом? Какой в нем сломан призрачный кинжал? Какое на руке его кольцо? В твоих стихах мне чудится ответ, в твоем лице мне видится вопрос. Я вряд ли верю, вариантов нет. Не может быть, чтоб все это — всерьез. И все-таки, надеюсь, что всерьез. С оплатой — ворох разномастных строк — найду гадалку и спрошу ее: куда мне деть мной созданный мирок?