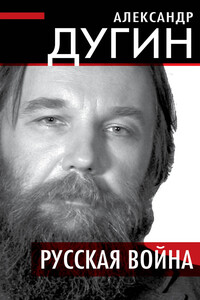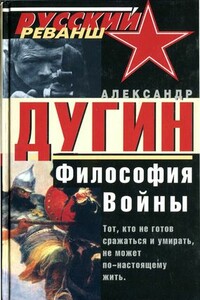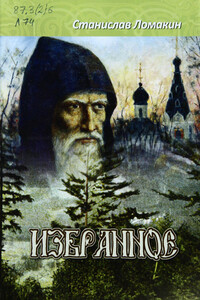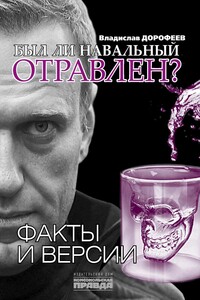Александр Дугин
Когда никого нет
Очень динамично меняется историческая ситуация, в которой мы пребываем. За несколько лет протекают целые эпохи, что влечет убыстренный ритм смысловых трансформаций. Это касается философии, идеологии, политологии, истории религий. Складывается парадоксальная ситуация — чем более фундаментальны сдвиги, разрывы и мутации, тем безразличнее к ним общественная рефлексия. Падают могущественные империи и идеологии, закрываются социальные циклы и эры политической истории, но у интеллектуалов это вызывает не энтузиазм, но зевоту. Историческая и философская рефлексия относительно современности, ее аксиом и ее процессов смехотворна. Ничтожность — общий знаменатель мысли в нашу эпоху. Многие запреты, ингибиции пали, темные пятна прояснились, исчезнувшие элементы нашлись, но не осталось того зрителя, того свидетеля, который мог бы сделать из всей этой обнажившейся роскоши, из отчетливо проступившего сквозь наносы второстепенного скелета логики Истории, адекватный и могущественный вывод.
Самая интересная, заключительная часть драмы, развязка проходит перед пустым залом.
А тем временем… Из исторической плюральности идей и народов, теорий и религий, геополитических блоков и технических решений на наших глазах формируется нечто новое, еще не бывалое. Единый мир, One World, единое человечество, единый социум, единая логика истории.
Есть два доминирующих отношения к такой реальности — умеренный оптимизм и безразличие. В этом и заключается весь кошмар. Умеренным оптимизмом и безразличием встречает тот, кто был (или считался) субъектом истории, свой собственный конец. Механика и динамика обоих подходов, их рекомбинации и суперпозиции составляют прозрачные лабиринты современной рефлексии, лишенной активности, изобилия дополнительных измерений, драматизма.
Такое впечатление, что все стороны, все полюса исторического процесса, мирового конфликта, признали свое поражение. Всеобщность поражения, разочарования, «ресигнации» задает тон тусклой эсхатологической мелодии бесконечного конца человечества.
Хиатус, кома, бледная призрачность ярких искусственных сумерек… Нет жизни, но нет и смерти. One World — парадигма предсмертного обморока, претендующего на то, что он будет длиться вечно. Победа над страхом смерти достигнута предельным истощением жизни. Существование несуществования. Общеобязательные успокоительные дозы, распределенные равномерно и радушно. Лишь несколько буйных требуют более жесткого обхождения.
Призрачная возможность (почти невозможность) третьего отношения к Концу Истории, становящемуся "бесконечным фактом".
Непослушные больные, одержимые преступными перверсиями в тиши планетарного санатория.
Несколько буйных и их соображения относительно последних времен. Вряд ли это представляет широкий общественный интерес. Люди, сохранившие печати солнечного света в подземной империи мрака. Заключенные общества контроля, в котором темницей становится вся реальность. Тюрьма без стен Сартра. Она, наконец, достроена и сдана в эксплуатацию.
Но…
Мы все же ставим свой диагноз актуальности. Выносим ей свой приговор. Выдвигаем новую стратегию.
Вряд ли отныне можно всерьез рассчитывать на сопротивление Системе извне. Если такой шанс представится, мы, безусловно, схватимся за него. И даже в том случае, если поражение будет очевидным, за счастье почтем безнадежно и отчаянно сделать фатальный выстрел. Восстание несет цель в самом себе. Но даст ли Система нам еще минимальное пространство для Восстания? Может не дать, подменить пробуждение виртуальной экранной инсценировкой. Система сейчас настолько отлажена, что не довольствуется более внедрением провокаторов в нонконформные среды. Она научилась сама создавать «революционные» квазисубъекты, тени нонконформизма, ложные полюса.
Концептуальная сумма общей теории "восстания извне", предельно актуализированная и соотнесенная с новейшими условиями, выражена в теории национал-большевизма. К этому сводится суть нашей предшествующей стратегии. Все это остается верным и надежным и сейчас. Нет никаких новых обстоятельств, которые поколебали бы нашу уверенность в истинности и идеологической законченности вычлененной нами парадигмы. Но об этом самое основное уже сказано. Теперь обратимся к той реальности, в которой внешнее действие, противостояние лицом к лицу — даже в виде позиции партизана Шмитта — более не осуществимо. В таком случае мы нуждаемся в новой стратегии и новой онтологии, новой историософии субъекта Революции.
Национал-большевизм стоит перед перспективой последнего превращения, финальной метаморфозы. Смысл ее сводится к решению проблемы — как нанести удар по врагу в той ситуации, не когда он побеждает, но когда он победил? И кто нанесет этот удар, если никого больше нет — ни с нашей, ни с их стороны?
Отвергаябезразличие, не испытывая ни малейшего оптимизма относительно той реальности, в которой мы оказались, ничего не забыв и ничего не упуская из виду, мы выносим приговор современному миру, и с полной ответственностью утверждаем, что он вот-вот рассыплется. Этот процесс лишь