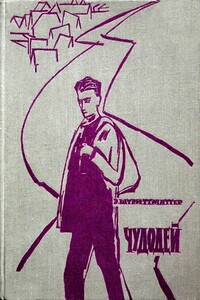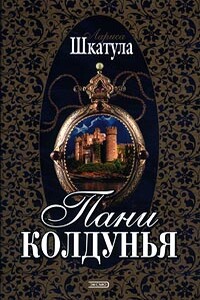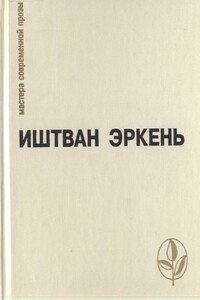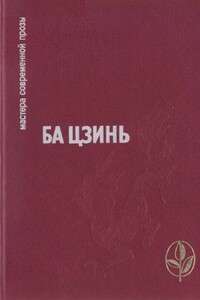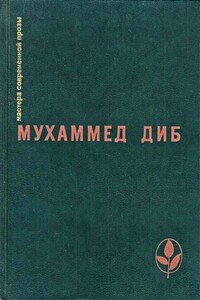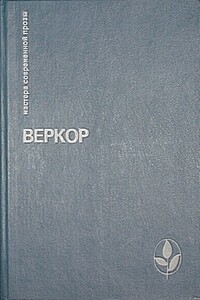Суета не проходит, а выгода уходит, и когда торговля лошадьми потеряла всякий смысл, заядлый лошадник Харткин на нажитые деньги купил плодовый сад. Работать под деревьями он еще мог, но когда стокилограммовая туша Харткина устремлялась к спелым вишням, ветки и ступеньки садовых лестниц так и трещали, и он предоставил сбор плодов своей более легкой жене.
Сам Харткин возился с двумя-тремя лошадьми, коих в воскресные дни по старой привычке продавал, чтобы купить новых. Когда он чуял запах лошади, его так и тянуло за ней, он должен был ее увидеть и склонить ее хозяина к продаже или обмену.
Прекрасные лошадки прошли через руки Харткина: красно-пегие лошади бельгийской породы с маленькими холмиками двух половинок крутого зада, сухоногие рысаки, скаковые лошади, высекавшие искры копытами, лошади в голубых яблоках, белые, как стиральный порошок, и чистокровные кобылы со скользящей походкой газели и взглядом арабских женщин.
Харткин был доволен своей жизнью под плодовыми деревьями, но жизнь не считалась с довольством неисправимого лошадника, она мчалась дальше, дальше — к неизвестным целям.
Весной умерла жена Харткина, самая низкооплачиваемая садовая работница, и на него свалились все заботы; он продал двух лошадей, а сад предложил своим детям.
Один сын у него был учителем, второй — инженером, дочери жили с мужьями в городе. Все отказались: они не желают, как первобытные люди, лазить по деревьям.
Харткин вступил в садоводческий кооператив. В конюшне у него стояла еще одна лошадь, кобыла пони, которую он оставил у себя, потому что за эти годы она принесла ему пятерых жеребят. Пони, низкорослая кобылка белой масти, могла пройти под вытянутой рукой Харткина и у нее был короткий цокающий шаг. В кооперативе лошадь не требовалась. Любовь Харткина к лошадям становилась нерентабельной.
Прошло, прошло прекрасное время лошадей! Прощай, позвякивание цепей и стук копыт в конюшне! Харткин, вздыхая, послал объявление в садоводческую газету. Продается белый пони самых чистых кровей.
Воскресное утро, утро майского дня. За домом Харткина соперничали между собой бело-розовая кипень и аромат цветущего сада. Жужжание шестиногих опылителей заглушало удары колокола с колокольни, отбивавшие 10 часов. Тощий человек, ростом без малого два метра, вошел во двор Харткина. Фамилия его была Хаубенрайсер, он был из-под Мекленбурга и, казалось, принадлежал к некой секте людей, обедающих стоя. Прежде чем что-то сказать, он вытянул верхнюю губу, как будто собирался проиграть свои слова на губной гармошке-пикколо, сдержанно поздоровался, заговорил о погоде, об опозданиях поездов и огляделся: «Не здесь ли давали объявление о продаже лошади?» Да, здесь давали объявление о продаже лошади. Харткин вошел в раж и приврал, что Хаубенрайсер уже десятый покупатель. Он хотел было провести чужака в конюшню, но тот вытянул верхнюю губу: он хочет увидеть лошадь в упряжке.
Пока Харткин надевал в конюшне сбрую на кобылу, чужак заплевал весь двор, а когда хозяин запрягал белую лошадку в телегу, Хаубенрайсер равнодушно глазел в бранденбургское небо.
Харткин положил доску на передок телеги, бросил на нее мешок и пригласил чужака садиться. Хаубенрайсер сел и с высоты своего покупательского трона впервые оглядел лошадь. Так это, стало быть, и есть кобыла, эта откормленная белая мышь? Слишком массивно это животное, шея слишком жирна, слишком толста в паху, чересчур много жира на груди и на спине — всюду бесполезный зимний жир.
Со спины кобылы поднимался запах аммиака, мешаясь с ароматом цветущей вишни. Хаубенрайсер разинул рот и чихнул; Харткин погнал лошадь крупным наметом. Телега, дребезжа, мчалась по высохшим лужам, и затылок Харткина подрагивал в воротнике пиджака. В кулаке его, как в цветочном горшке, торчало желтое кнутовище, кнут отклонялся по ветру. Дергающийся кнут гнал лошадь, только удила позвякивали.
Через пятьдесят метров кобыла умерила свой аллюр и перешла на цокающую рысь. Она была слишком жирна, а жир придает лень, Харткин же превратил лень в добродетель, утверждая, что у пони все дело в цокающей рыси. Чудо-пони! Цены нет такой лошади!
Хаубенрайсер неотрывно смотрел на кобылу ястребиным взором — взглядом своих пернатых предков. Цокающая рысь ему не нравилась, он не прочь был бы увидеть, как лошадь идет шагом, но Харткин не желал его понять. Тогда Хаубенрайсер сам схватил поводья, вырвал у Харткина кнут и бросил его в телегу.
Теперь кобыла шла шагом, и Хаубенрайсер сравнил его с шагом белой кобылки, стоявшей у него дома в стойле. Шаг был на двадцать сантиметров короче.
Харткин дергал себя за ремень, желая, чтобы взгляды были больнее ударов кнута, дабы ими ускорить ход лошади.
Время шло, в телегу падали вишневые лепестки. Чужак молчал, шаг кобылки становился без помощи кнута все короче, и Харткин попытался отвлечь внимание покупателя путем внушения: сперва кобыла должна расслабиться, сказал он, а кто что-нибудь смыслит в лошадях, тот это знает!
Чужак продолжал молчать, только нервно подергивалась верхняя губа. Сквозь листву проглядывали солнечные лучи, на вишневых деревьях лопались новые почки, но для лошадников по сторонам дороги вместо цветущих деревьев с таким же успехом могли бы стоять заснеженные метлы.