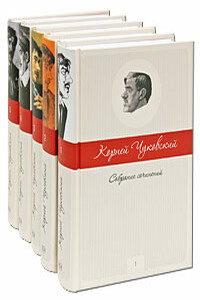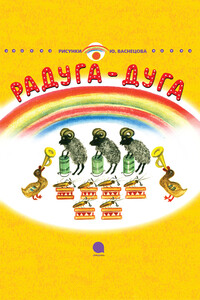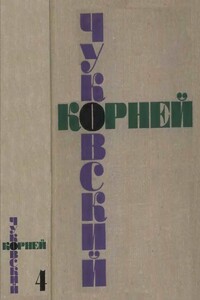Неужели молодость Горького и вправду была так мучительна? Когда читаешь его книгу «Детство», кажется, что читаешь о каторге: столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и, право, не их вина, если он не пошел их путем. Они усердно посвящали ребенка во все тайны своего ремесла — хулиганства, озорства, членовредительства. Упрекнуть их в нерадении нельзя: курс был систематический и полный, метод обучения — наглядный. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасна накаленный наперсток; как калечить дубиной родную мать; как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски-гнусную ругань. Его рачительно готовили в каторгу, как других готовят в университет, и то, что он туда не попал, есть величайший парадокс педагогики.
Старинные семейные традиции требовали от него этой карьеры. Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери, — дядя Яша и дядя Миша, — оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух, столкнули жену его в прорубь, убили его друга Цыганка — и убили не топором, а крестом!
Крест, как орудие убийства, — с этой Голгофой познакомился Горький, когда ему еще не было восьми лет. В десять он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с ножом на человека. Он видел, как его родную мать била в грудь сапогом подлая, длинная мужская нога. Свою бабушку он видел окровавленной, ее били от обедни до вечера, сломали ей руку, проломили ей голову, а оба его деда так свирепо истязали людей, что одного из них сослали в Сибирь.
Кто из русских знаменитых писателей мог бы сказать о себе: «я был вором»? А Горький еще в детстве снискивал себе воровством пропитание. «Мы выработали себе ряд приемов, успешно облегчавших нам это дело», — вспоминает он о себе и товарищах.
Из его товарищей только один чуждался этой профессии, а дядя Петр обкрадывал церкви, Цыганок похищал на базаре провизию, Вязь, Кострома и Вяхирь воровали жерди и тёс. Горький сделал своей специальностью похищение церковных просфор.
Позже, когда подростком он служил в башмачном магазине, ему внушали елейно и вкрадчиво:
— Ты бы, человече божий, украл мне калошки, а? Украдь, а?
А когда он поступил в иконописную мастерскую, он украл икону и псалтырь[1].
До сих пор мы думали, что мещанская жизнь — это беспросветная скука и только: блохи, пироги с морковью, икота, угар; но оказывается, эта жизнь (по Горькому) есть кипение лютых страстей, кровавые трагедии, сплошная война. Как о самом обычном, он мимоходом повествует о том, что один из его соседей каждый день садился у окна и палил из ружья в прохожих. А когда Горький вырос, какой-то охотник всадил ему в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дроби — здорово живешь, ни с того, ни с сего! Вся его книга полна дикими воплями: «Расшибу об печку!», «Убью-у!», «Еще бы камнем по гнилой-то башке!»
Нет, не похоже «Детство» Горького на «Детство» Толстого! Когда-нибудь для школьных сочинений будет предлагаться в школах тема: сравнительный разбор обоих «Детств» и гимназисты победоносно докажут, что усадебное детство было лучше чумазого. Ведь мимо малолетнего Толстого не возили людей в цепях казнить на ближайшей площади, ведь Толстого не засекали до потери сознания, ведь дом, где жил восьмилетний Толстой, не соседствовал с домом терпимости. Потому Толстой и воскликнул:
— «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней!»
А мученик чумазой педагогики уже не повторит этих слов. «Точно кожу содрали мне с сердца» — таково было его детское чувство. Ошпаривали сердце кипятком.
Эта злая война всех со всеми не погубила Горького, но закалила его. Благодаря ей он сделался бойцом. И, когда я читаю в его автобиографической книжке, как он намазал своему ненавистному вотчиму сиденье стула клеем; как в шапку ненавистному дяде Петру он насыпал едкого перцу, чтобы тот чихал целый час; как, мстя за оскорбление бабушки, он выкрал у деда святцы и, разрезав их на мелкие клочки, остриг у святителей головы, хоть и знал, что за это будет жестокая казнь, — когда я читаю о таких маленьких бунтиках маленького Горького, я чувствую, что это — пророчество о будущем неукротимом забияке:
Ты, жизнь, назначенная к бою!
Ты, сердце, жаждущее бурь!
Попробуйте четырехлетнего Горького запереть в каюте на ключ. Он схватит бутылку с молоком и ударит бутылкой по двери! Стеклом по железу! Ничего, что бутылка вдребезги, а молоко натечет в сапоги.
Строптивость была его главной чертой. Какая-то старуха сказала ему за обедом: «Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать, — и такие большие куски!» Он вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей: «Возьмите, коли жалко!»
А учителю в школе сказал: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь!»
В «Детстве» о таких подвигах повествуется часто: чуть, например, маленький Горький увидел, что пятеро здоровенных мещан навалились на одного мужика и рвут его, как собаки собаку, он тотчас же с целой тучей булыжников бросился выручать избиваемого. А когда за какие-то провинности мать отхлестала его, он предупредил ее спокойно и твердо, что, если это повторится, он укусит ей руку, убежит в оледенелое поле и там замерзнет, — умрет, а не сдастся.