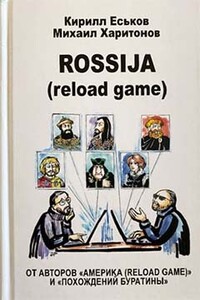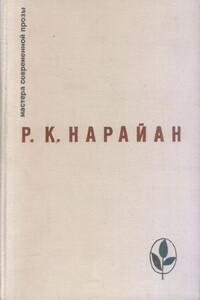…На другой день после посещения Хрущевым знаменитой выставки в Манеже мы с мужем были на утреннем спектакле в студенческом театре МГУ на Никитской. Давали «Дракон» Шварца. В антракте вся публика осталась на местах, шурша свежими газетами. У меня было острое ощущение, что когда мы выйдем, нас уже будет поджидать вереница закрытых фургонов с надписями «Хлеб».
Ревекка Фрумкина
«Дракон» Евгения Шварца — довольно известное произведение подсоветской литературы. Слово «подсоветский» здесь используется — за неимением лучшего — для указания на тот двусмысленный статус, которым обладали некоторые «советские» (по месту публикации) тексты. В то время, когда русская литература чётко делилась на дореволюционную, советскую, и запрещённую (сюда относился «самиздат», эмигрантская литература, а также, впрочем, многое из «дореволюционного»), некоторые книжки оказывались ровно на разделительной полосе. Точнее, не совсем на ней, а с разворотом: официальным красным корешком сюда, в «сегодняшний социалистический день». Зато страничками — куда-то туда: то ли в дореволюционный Петербург, то ли в эмигрантский «свободный Париж».
Роль «подсоветских» произведений в российской интеллигентской культуре прошлого века была чрезвычайно велика. По сути дела, именно эти книги её и сформировали.
Чтобы было понятнее, о чём идёт речь, сразу назовём наиболее важных авторов подсоветской литературы. Таковых было четыре: Булгаков, Достоевский, Ильф-Петров (как единый автор), и братья Стругацкие (тоже как одно лицо). Разумеется, постсоветская литература ими никоим образом не исчерпывается, но эти четыре автора создали её классический корпус. Знакомство с соответствующими текстами было абсолютно обязательным для людей, желающих называться образованными (вузовский диплом имел куда меньшее значение), а знание «вкусных» цитат из «Мастера и Маргариты»[1] и «Двенадцати стульев» считалось чем-то вроде культминимума.
Интересно, что эти книги имеют между собой очень много общего настолько много, что можно говорить о своего рода «метатексте», или даже о едином Подсоветском Романе. Смысловые переклички, аллюзии, прямые и косвенные цитаты между составляющими этот текст частями поразительны. Тема эта, впрочем, необъятна; назовём навскидку лишь несколько интересных моментов, обычно ускользающих от внимания литературоведов. Например, булгаковские Коровьев-Фагот и кот Бегемот имеют своё точное подобие у Ильфа и Петрова: это, разумеется, Остап Бендер и «Киса»[2] Воробьянинов. С другой стороны, булгаковская тема «бала у Сатаны» тесно связана со знаменитой сценой «литературного бала» в «Бесах»[3]. Рудольф Сикорски у Стругацких является, по сути дела, аватарой Воланда, а в «Отягощённых злом» Воланд и Иешуа Га-Ноцри появляются в собственном своём виде. Тема «советской чертовщины» и её столкновения с чертовщиной настоящей является сквозной для ильф-петровской дилогии о Бендере, всего позднего Булгакова (включая, разумеется, «Мастера»), и «Понедельника» Стругацких[4], etc, etc. Витгенштейн называл это явление «семейным сходством»: множество тем, ноток, интонаций, связывающих все эти сочинения в единое целое, несмотря на отсутствие генерализирующего «общего признака».
На этом фоне, не сливаясь с ним, существовали «малые» произведения подсоветской литературы, равно как и подсоветские писатели «второго ряда». К их числу принадлежит и Евгений Шварц. Основная заслуга, которая числится за ним — это написание «Дракона» (1943), прочитанного интеллигенцией в качестве антисоветской (и антироссийской) аллегории, и в таком виде канонизированного в интеллигентских святцах.
Напомним сюжет пьесы. Некий странствующий рыцарь по имени Ланцелот приходит в город, которым правит Дракон, жестокий тиран и убийца. Этот Дракон, помимо прочих своих преступлений, каждый год требует себе в жертву девушку для какого-то отвратительного (видимо, сексуального) использования, что именуется «браком» с чудовищем. Рыцарь вызывает дракона на бой, и ожидает поддержки от горожан. Городские власти (фактически же — властный аппарат, созданный Драконом) ему подобной поддержки не оказывают, и даже стараются погубить героя. Однако, он её в конце концов получает от неких диссидентов и маргиналов, снабжающих его волшебным оружием (шапкой-невидимкой, ковром-самолётом, и т. п.) После боя Дракон погибает, а рыцарь (получивший тяжёлые ранения и находящийся при смерти) куда-то исчезает. Городские власти (в лице Бургомистра) лишь упрочивают свою власть, тиранические же порядки в городе при этом нисколько не меняются. В конце концов рыцарь (волшебным образом спасшийся) возвращается, низвергает Бургомистра и его помощников, заключает их в темницу, и берёт власть в собственные руки.
То, что перед нами классическая аллегория, понятно сразу. Советская цензура позволила себе и читателям расшифровать её в нужном для себя ключе: в Драконе она предпочла увидеть «фашизм», в Бургомистре и его помощниках крупную буржуазию, а в городских обывателях — её же, но мелкую. Идею аллегории усматривали в том, что уничтожение фашизма ещё не означает освобождения от власти тёмных сил, его породивших. Ланцелот же неплохо смотрелся как образ «сознательного пролетариата», сокрушающего фашистскую гадину, но пока ещё не освободившего мир от эксплуатации человека человеком, которая и есть настоящая причина всех зол. Военное (1943) время легитимизировало подобное прочтение, тема «латентной фашизоидности капитализма» была вполне актуальной для советской пропаганды, так что никаких лишних вопросов эта интерпретация не вызывала.