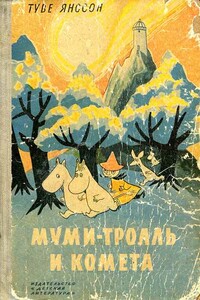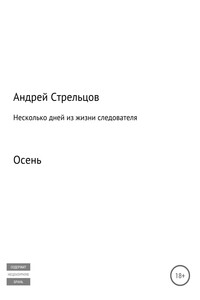Три моторные лодки, выстроившись в ряд, стремительно неслись по морской глади, светило солнце, и встречные катера приветствовали их, думая, что они плывут наперегонки.
В лодке, что была посредине, с широкой нижней палубой, лежала на носилках очень старая женщина. В носилки был превращен красный палубный стул, разложенный для отдыха и снабженный веслами. Он был достаточно узок, чтобы пройти в дверь. Она лежала, отвернув голову, ее волосы были совсем седыми, а черты лица внезапно и резко обострились.
Вплоть до самой пристани, где останавливались автобусы, лодки не снижали скорости: они замедлили ход и причалили возле затоптанного берега, куда приходили и откуда отходили лодки, где все было как обычно, пока не прибыла «скорая помощь». Тогда все поставили свои сумки и коробки и подумали: «Боже мой, посреди всего этого…» — и удерживали своих детей, не подпуская их ближе, чтобы не смотрели. Пожилая дама в шляпе с полями наклонилась вперед, пытаясь заглянуть в лицо отвернувшейся незнакомки. Она вовсе не была любопытна; она узнала ее и сказала самой себе:
— Бедная малютка!
В санитарной автомашине было жарко, тот, что сидел за рулем, желая выяснить обстоятельства, спросил:
— У вас есть нитроглицерин?
Вероятно, тот, кто водит санитарную машину, должен кое-что знать, возможно, тут необходимо специальное образование. Помощник, сидевший рядом с женщиной, был очень юн и лишь ехал молча, серьезно… с таким видом, будто ему, собственно говоря, но вполне естественному праву надлежало быть где-то совсем в другом месте.
Дорога извивалась и поворачивала в этой жаркой безжизненной местности; возможно, она некогда была лишь тропинкой, что сторонилась, уступая место домикам, камням и небольшим пашням. А позднее она стала шире, и никому не было дела до того, что она расширялась и, закаляясь, становилась проселочной дорогой, потому что всегда уступала, сторонясь одних и тех же препятствий.
В лавке они попытались выяснить, что им может понадобиться в санитарной машине, и купили минеральную воду, карамельки и носовые платки.
День был ужасно жаркий, и ночью разразилась гроза. Больницу — приземистую и длинную — с одного конца до другого перерезал коридор. Он был совсем темный, но теперь, летом, никакого света не требовалось. Все двери стояли открытыми настежь, и те, кто обитал в этих стенах, были совершенно молчаливы, возможно, они прислушивались к грозе. Гроза была великолепна. Архитектор, строивший больницу, соорудил огромный балкон в конце коридора. Оттуда можно было видеть задумчивые сады, обнесенные асфальтовыми стенами, почерневшими от дождя. Ночные автомобили проезжали время от времени мимо. Весь ландшафт был наполнен до краев зеленым светом ненастья, схожим с холодными бенгальскими огнями, деревья же, каждое само по себе, казались неподвижными кулисами, раскинутыми далеко друг от друга. Над садами, вспыхивая белыми и прохладно-голубыми бликами, шествовала гроза, но молнии терялись в летней ночи.
Больница расположилась неподалеку от побережья, и ныне, пред самым рассветом, чайки кричали над берегом. Их, возможно, было много сотен, и все они, поднимаясь вверх и падая вниз, кричали… то было сильнее грозы. Тем, кто прислушивался, крик их казался тяжким дыханием, тревожным биением пульса, пронизывавшим ночь.
Чайки смолкли, когда просветлело, и дождь был совсем недолгим.
Коридор был так узок, что казалось, его завершал клин, сгусток темноты. Но все время этот пустой коридор светился тем же зеленым светом, что на воле пронизывал ночь и вливался сюда через открытые двери.
Она любила грозу, но, возможно, непогода была слишком бесшумной, она не добиралась до нее. Как назвать то, что перемежает те бездыханные, краткие периоды сна, во время которых смертельно усталый человек умирает? Это не может быть лишь мука из-за нехватки воздуха, воды, потому что все затихает, и останавливается, и взывает к освобождению, к неумолимому и совершенно чуждому жизни преображению. Старой женщиной овладевали картины, события, происшествия из пережитой ею или пригрезившейся ей в мечтах жизни, все были с ней, быть может, не только те, кто любил ее и жил рядом с ней, но также и те, кто ускользнул от нее, все утраченные возможности… Ведь ты не знаешь, ведь ты ничего не знаешь, но пытаешься найти объяснение в улыбке и нескольких словах, что являются издалека, из мира иного, мира более истинного, нежели тот, что существует на самом деле.
Смерть — это ведь всего лишь то, что обрывает все нити, что заставляет тебя умолкнуть. Если долго-долго прислушиваться к дыханию, услышишь вдохи и выдохи — звуки тягостной жизни, которая борется за то, чтобы продолжаться… Вынужденная жизнь продолжает двигаться дальше, протекать среди лекарств и инъекций. Но вдруг все это — вместе взятое — становится ненужным, и подвешивается во всяких склянках и пакетиках, и увозится прочь на резиновых колесиках. Тот, кто умирает, абсолютно чист, абсолютно тих, а потом из серых губ, с изменившегося лица раздается громкий крик, его принято называть «хрип», но это крик усталого тела, которому уже достаточно всего: жизни и ожиданий, достаточно всех этих попыток продолжить то, что кончено, достаточно всех этих подбадриваний и тревожных боязливых забот и хлопот, всей неловкости, всей нежности, всей боли с ее решительностью не показывать всего этого и не пугать того, кого любишь. Смерть во всех ее проявлениях многолика, но она может быть еще и смертью долгой и очень усталой жизни, единственным возгласом, точным завершением того окончательного… подобно тому, как художник на последней странице книги оставляет, придавая ей завершенность, свою виньетку.