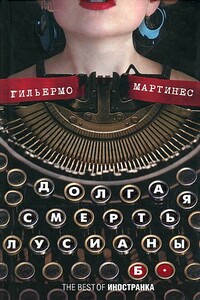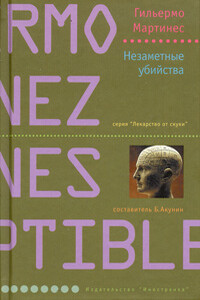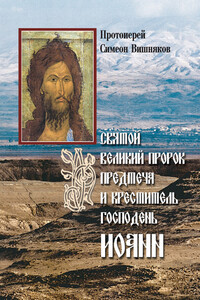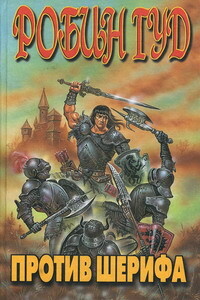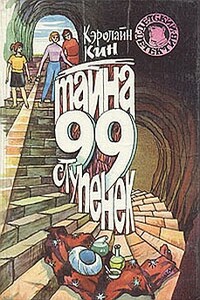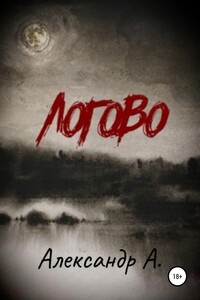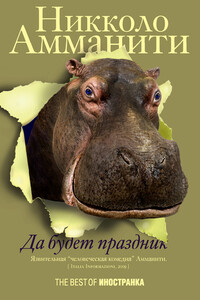Телефонный звонок раздался в воскресенье утром, вырвав меня из глубокого забытья. «Это Лусиана», — прошелестело в трубке. Наверное, она думала, я сразу ее узнаю, но, когда я в недоумении повторил ее имя, она назвала фамилию, отозвавшуюся в памяти далеким и невнятным эхом, после чего уже несколько раздраженно объяснила, кто она такая. Лусиана Б. Девушка, которой я диктовал. Конечно, я ее помню. Неужели прошло уже десять лет? Да, почти десять, и она рада, что я по-прежнему живу там же, однако голос ее звучал совсем нерадостно. После небольшой паузы она спросила, можно ли со мной повидаться. Ей необходимо со мной повидаться, добавила она чуть ли не с отчаянием, и я не смог отказаться, хотя сперва такая мысль у меня мелькнула. «Конечно, почему бы и нет, — сказал я, несколько встревоженный, — а когда?» — «Когда сможешь, но только побыстрее». В нерешительности я окинул взглядом комнату, где вопреки закону энтропии царил неизменный беспорядок, затем посмотрел на часы, стоявшие на ночном столике. «Если это вопрос жизни и смерти, может быть, сегодня часа в четыре у меня?» На другом конце провода я услышал всхлип и прерывистый вздох, словно она пыталась сдержать рыдание. «Извини, — пробормотала она, — но это действительно вопрос жизни и смерти. Ты ведь ничего не знаешь, да? Никто не знает. Никто не понимает». Казалось, она вот-вот расплачется, но все-таки ей удалось справиться с собой. После короткого молчания она произнесла едва слышно, будто имя далось ей с трудом: «Это связано с Клостером. — Затем, предупреждая мои вопросы и, видимо боясь, что я передумаю, сказала: — В четыре я буду у тебя».
Десять лет назад в результате нелепого несчастного случая я сломал правое запястье, и кисть заковали в гипс до самых кончиков пальцев. Приближался срок сдачи в издательство моего второго романа, а я мог представить лишь черновик — две толстые тетради на спиралях, исписанные жутким почерком, да еще со вставками, стрелками и исправлениями, которые никто, кроме меня, разобрать был не в силах. После недолгих размышлений мой издатель Кампари вспомнил, что некоторое время назад Клостер решил диктовать свои романы и нанял для этого молоденькую девушку, настолько совершенную во всех отношениях, что он считал ее одним из самых ценных своих приобретений.
— Но захочет ли он мне ее одолжить? — спросил я, боясь поверить в такую удачу.
Имя Клостера, хотя мой собеседник запросто спустил его с заоблачных высот на наш более чем скромный уровень, меня впечатлило. Недаром ведь единственным украшением кабинета Кампари служила обложка первого романа Клостера, выполненная в виде картины.
— Конечно, не захочет, но он сейчас за границей, и до конца месяца его не будет. Уединился в одном писательском пансионе и правит там очередной роман, как всегда делает перед публикацией. Он не взял с собой жену, и я не думаю, — Кампари подмигнул мне, — что она на время уступила свое право собственности и позволила ему захватить с собой секретаршу.
Он при мне позвонил Клостеру домой, рассыпался в пылких приветствиях, очевидно, перед женой, покорно выслушал, скорее всего, ее жалобы, терпеливо подождал, пока она найдет нужное имя, и наконец записал номер телефона на клочке бумаги.
— Ее зовут Лусиана, — сказал он, — но будь осторожен, ты ведь знаешь, Клостер — наша священная корова, поэтому девушку нужно вернуть в конце месяца в целости и сохранности.
Благодаря этому короткому разговору мне удалось заглянуть в тщательно охраняемую частную жизнь самого молчаливого писателя страны, где писатели только и делают что болтают. Слушая Кампари, я не переставал вслух удивляться. Неужели у этого жуткого Клостера есть жена и он настолько буржуазен, что держит секретаршу?
— У него и дочка есть, которую он обожает, — добавил Кампари, — она родилась, когда ему было почти сорок. Я раза два встречался с ними по пути в парк. Никогда не скажешь, что он любящий отец семейства, правда?
Хотя в то время Клостер еще не был раскручен и широкая публика его не знала, уже давно поговаривали, что он всех заткнет за пояс. Первая же книга показала, насколько он значительнее и оригинальнее всех остальных. Молчание, в которое он погружался между двумя романами, напоминало грозное молчание кота, наблюдающего за мышиной возней. Теперь после каждого нового произведения Клостера мы задавались вопросом, не как он это сделал, а как ему удалось сделать это снова. К тому же, к сожалению, он не был так уж стар и далек от нашего поколения, как нам хотелось бы. Мы утешались тем, что Клостер просто выродок, отвергнутый людьми и замкнувшийся в злобном одиночестве, и вид его не менее ужасен, чем у героев его книг. Возможно, прежде чем стать писателем, он поработал судмедэкспертом, или изготовителем мумий в музее, или шофером на катафалке. Недаром он выбрал в качестве эпиграфа к одному из своих романов пренебрежительные слова Голодаря из рассказа Кафки: «…я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу… я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты и как все другие».[1] В тексте на обложке его первой книги говорилось, что он немного «немилосерден» в своих наблюдениях, однако по прочтении нескольких страниц становилось ясно: Клостер не просто немилосерден — он беспощаден. Его романы с первых же абзацев ослепляли, как автомобильные фары на дороге, а когда ты спохватывался, что уподобился парализованному страхом зайцу и способен лишь завороженно перелистывать страницы, было уже слишком поздно. Казалось, его истории безжалостно взламывали защитные механизмы сознания и ворошили глубоко запрятанные страхи, словно автор обладал тайной способностью к трепанации, но проделывал ее необычайно тонкими инструментами. Его романы не были, строго говоря,