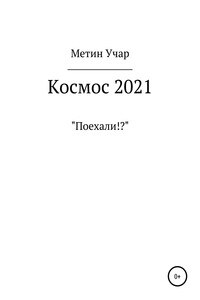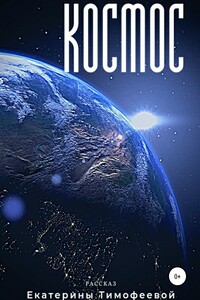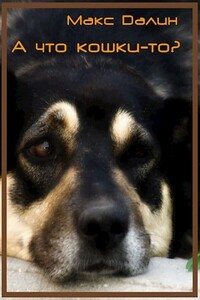О мальчике, который боялся темноты, и о том, как он научился с этим страхом бороться.
Осенними тёмными вечерами, когда мир отравлен дождём и проклят тучами, Темнота всегда рядом. Твоя тень сливается с сумраком, заползающим в комнату. Растёт, нависает, грозя захватить и пленить навсегда. А навсегда — это очень, очень долго и очень страшно, правда? Ты бежишь, спасаешься, включаешь электрический свет, и тень съёживается, прячется — далеко, глубоко в сердце. Но она всё ещё там. И ты, и она знаете, что она там. Темнота всегда рядом.
Тим боялся темноты. Осень он тоже не любил, но темноты боялся до предательской дрожи в коленях, охрипшего голоса и мокрых ладоней. Впрочем, ладони у него были мокрые всегда. Его так и называли в школе — Ладошечка. Ничего обидного в прозвище не было — на первый взгляд. Но все дети произносили его со вкусом, со сладким ощущением собственного превосходства — потому что они все в чём-то превосходили тихоню Тима. И все это знали. Не сложно превзойти незаметного, как тень, мальчишку, всегда сидящего в углу, всегда с потными ладонями, боящегося сказать хотя бы слово. Учителя качали головами и вызывали его к доске редко-редко — Ладошечка бормотал, выталкивал из себя даже не слово — слог за слогом, и так в час по чайной ложке… Даже учителя не выдерживали это и надолго оставляли Тима в покое, ставя ему тройку разве что из милости.
Дома было не лучше — там ждали два старших брата-близнеца, гроза подворотен и двойная любовь всех окрестных девчонок. А малыша Тима, худенького, с вечно падающей на лоб, закрывающей глаза чёлкой, с опущенной головой и сгорбленными плечами не замечали, порой, даже родители. Да и те вспоминали лишь после очередной шалости близнецов, которые по привычке сваливали вину на брата. Тима редко ругали, но все — а тут даже мама в кои-то веки была солидарна с папой — считали его неудачным ребёнком. Бывает такой в семье, особенно, если она большая.
На Тима все давно махнули рукой. Тим и сам махнул на себя рукой, но иногда что-то глубоко, далеко в сердце (может, тень?) ворочалось, как спящее чудовище. Рычало. В такие моменты Тим был способен на странные поступки — например, пойти исследовать забитый хламом чердак — особенно тёмный и страшный густым осенним вечером.
В тот первый раз близнецы, походя, просто дурачась, порвали его любимую книжку с яркими картинками. Точнее, половину порвали, а на особенно красивых и интересных картинках нарисовали идиотские рожицы с длинными усами и бородами.
Тим и сам знал, что пора бы привыкнуть. В конце концов, братья поступали так не впервые. Но чудовище заворчало, и Тим сам не понял, как оказался у лестницы на чердак. Не то, чтобы он хотел доказать кому-то (или самому себе?), что он ничего не боится (а особенно темноты). Просто… Тим и сам не знал, что «просто». Но стоило ему ступить на порог и окунуться в чернильную темноту, запах пыли, шум дождя… От бегства в свою комнату в кровать и под одеяло его удержал только вспомнившийся голос близнецов: «Что, малой, слабо?». Они часто так говорили — и смеялись. И чудовище в сердце зарычало снова, и Тим набрался смелости, сделал первый шаг… второй… Запнулся, зацепился, запутался, свернул что-то, и это что-то рухнуло ему на плечо, подняв облако пыли, которая немедленно забилась в нос.
Чудовище в сердце замерло, раздавленное страхом, и Тим, не задумываясь, бросился к двери, откуда тянулась тонкая полоска света. Подвернувшаяся по пути вешалка-стойка, как живая, дёрнула мальчишку за ногу, подножку подставил тяжёлый посудный ящик, за рукав схватил подвернувшийся по пути гвоздь, и Тим рухнул на пол перед дверью.
С тоскливым отчаянным скрипом та закрылась, медленно, зловеще, оставляя мальчика один на один с тенью. С Темнотой.
Бывают такие моменты во сне. В кошмаре, когда что-то тянется к тебе, надвигается, вот-вот схватит, и ты открываешь рот — закричать, потому что только так можешь спастись. Но изо рта не доносится ни звука. И, когда сон, тоже испуганный, дрожит и рвётся от ужаса, ты, наконец, выдавливаешь слабый хрип… и просыпаешься.
Тим свернулся на полу и дрожал от ужаса, и очень-очень хотел проснуться. Или хотя бы закричать. Из темноты на него глядели сотни глаз, ужасные монстры тянулись к нему, и они были реальны, как реальны все детские страхи. Тим замер на полу, крепко-крепко закрыв глаза.
Снаружи барабанил дождь, громко и монотонно. Ужасные монстры, сбитые с толку, тоже замерли над мальчиком, потеряли его — но Тим слышал их тяжёлое дыхание (или всё-таки своё?). И скрип в углу. И звук, напоминающий шаги… совсем рядом… И оно (страшное оно) ходило вокруг, как кот ходит вокруг мыши, играя и наслаждаясь.
Тим дёрнулся, когда скрип раздался совсем рядом, забился, поднимая пыль, сворачивая какие-то коробочки, вешалки, тряпки… Одна из тряпок — старая скатерть — слетела с громадной, в пол стены картины, и чулан залил ровный, мягкий свет.
Забыв про монстров, Тим обернулся.
Картина сияла — как сияло бы через окно яркое солнце, которое сейчас как раз садилось где-то там, снаружи, за дождём, за низкими тучами. На розово-сиреневом небе зажигались звёзды, лучи ласкали покачивающие мокрой, еще не облетевшей листвой деревья, гладили траву, стелились рябью по воде озера. И это «там» смотрело на Тима с картины, живое, настоящее. Мальчик чувствовал солнечные поцелуи, слышал стрёкот кузнечиков и щекочущий ноздри запах леса. И всё оно было там, в картине, но оно было, и оно жило. Зачарованный, Тим подался вперёд. Лес, озеро и солнце приблизились… и так и остались за холодной, как стекло преградой. Ощупав её как следует и убедившись, что исчезать она не собирается, Тим вздохнул и улёгся рядом, подложив руку под голову, наблюдая, как садится солнце в зачарованном, волшебном лесу.