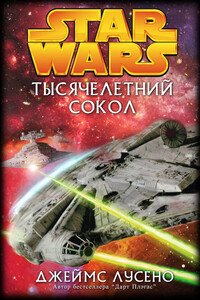Famous Fantastic Mysteries, October 1946, p. 98-110
Перевод Т. Алёховой по изданию: Генри Каттнер. Мокрая магия. М.: Эксмо, СПб.: Домино, 2007. с. 624-653
Слова даются мне с трудом, падре. Уже давно мне не приходилось говорить по-португальски — больше года. Мои здешние собеседники не привыкли к людским наречиям. К тому же, падре, знайте, что в Рио, где я родился, меня прозвали Луис О’Бобо, что значит Луис Простодушный. С головой у меня было что-то не в порядке, поэтому руки мне все время мешали, а ноги то и дело заплетались. Память у меня была никудышная, зато я многое видел. Да, падре, я видел то, о чем другие люди и не догадываются.
Я и сейчас вижу. Знаете ли вы, падре, кто стоит рядом с вами и слушает меня? Впрочем, неважно. Я ведь по-прежнему Луис О’Бобо, хотя этот остров издавна славится исцеляющими свойствами. Теперь-то я помню, что случилось со мной несколько лет назад. Помню даже лучше, чем то, что было на прошлой или позапрошлой неделе. Год пролетел, как один день, потому что время на этом острове течет по-иному. Стоит человеку поселиться с ними, как время исчезает. Я говорю о нинфа и им подобных.
Я не лгу. К чему мне это? Я ведь умираю — скоро умру, и в этом вы были правы, падре. Но я и так знал. Давно знал. У вас красивое распятие, падре. Вон как сияет на солнце. Увы, не для меня. Верите ли, я всегда знал про людей, что кого ожидает. А про себя нет. Может, потому, что у них есть душа, а у меня нет, оттого я и простодушный. А может, дело в одаренности, которая дается только умным. Или то и другое вместе, не знаю. Знаю только, что умираю. Нинфа уйдут, и тогда жить станет незачем.
Вы спрашивали, как я попал сюда, и я расскажу, если хватит времени. Вы не поверите. Пожалуй, это единственное место на всей земле, где до сих пор встречается такое, во что вы не верите.
Но прежде чем я расскажу о них, я должен обратиться к прошлому, когда был еще юнцом и жил на берегу синей бухты Рио, у подножия Сахарной Головы[1]. Помню доки в Рио и мальчишек, дразнивших меня. С виду я был большой и сильный, но умом все равно О’Бобо, не отличающий «вчера» от «завтра».
Minha avó, моя бабушка, была добра ко мне. Она была родом из Сеары[2] — области неумолимых ежегодных засух — и, полуслепая, страдала от вечных болей в спине. Она работала, чтобы нас прокормить, и не слишком журила меня. Я знаю, она была доброй. Это-то я понимал, на это у меня хватало способностей.
Однажды утром бабушка не проснулась. Я дотронулся до ее руки — она была холодная. Я не испугался, потому что добро не сразу ушло от нее. Я прикрыл ей глаза, поцеловал ее и ушел. Мне хотелось есть, а поскольку я был Бобо, то надеялся, что кто-нибудь накормит меня по доброте душевной.
Кончил я тем, что стал рыться в мусорных кучах. Нет, я не голодал, но был предоставлен самому себе. Вам приходилось испытывать подобное, падре? Похоже на резкий ветер с гор, от которого не спасает никакая овчина. Однажды я забрел в портовый кабачок и запомнил, как сверкали глаза у темных теней, во множестве сновавших среди пьянствовавших там матросов. У моряков были красные обветренные лица и просмоленные ладони. Они поили меня до тех пор, пока все не завертелось у меня перед глазами и не провалилось во мрак.
Я проснулся на грязной койке. Доски пола скрипели, а сам он качался подо мной. Да, падре, меня увезли обманом. Я пробрался на палубу, где чуть не ослеп от яркого солнечного света, и встретил там человека необычного и сияющего даэмона. Человек тот был капитаном судна, хотя тогда я этого еще не знал. Я его едва видел. Я смотрел на его даэмона.
Почти за каждым человеком следует даэмон, падре. Наверное, вы сами знаете. Какие-то из них темные, вроде тех, что я видел в таверне. А некоторые — сияющие, как у моей бабушки. Бывают цветные, такого бледного оттенка, словно пепел или радуга. А у того человека даэмон был ярко-алый. Настолько яркий, что по сравнению с ним кровь покажется золой. Этот цвет ослепил меня. Но в то же время он и притягивал. Я и взора не мог отвести, и долго смотреть на него не мог: болели глаза. Никогда прежде я не видел цвета столь прекрасного, но и столь пугающего. Сердце у меня в груди сжалось и затряслось, словно собачонка при виде хлыста. Если у меня все же есть душа, наверное, это она и трепетала. Я испугался красоты этого цвета ничуть не меньше, чем ужаса, который он пробудил во мне. Негоже видеть красоту в том, что злонамеренно.
У других людей на палубе тоже были свои даэмоны. Помимо видимых теней за ними следовали и невидимые — у кого светлее, у кого темнее. Но я заметил, что все они шарахаются от того прекрасного алого существа, что нависало над капитаном судна. У других даэмонов глаза светились, а у алого даэмона очей не было. Его прекрасное слепое лицо было все время обращено к капитану, словно он не мог смотреть иначе, как его глазами. Я видел очертания его закрытых век. И мой страх перед его красотой и порочностью не шел ни в какое сравнение с ужасом от того, что красный даэмон вот-вот приподнимет веки и взглянет на мир.
Капитана звали Иона Страйкер. Это был жестокий человек, от которого следовало держаться подальше. Матросы его ненавидели. Выходя в море, они оказывались в его власти не меньше, чем он сам во власти собственного даэмона. Вот почему я не испытывал к нему той же ненависти, что и другие. Я даже по-своему жалел Иону Страйкера. Вы разбираетесь в людях лучше, чем я, поэтому поймете, что из-за этой жалости капитан ополчился на меня даже больше, чем команда — против него самого.
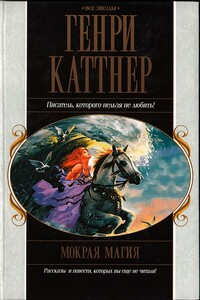
![День не в счет [День, которого нет]](/storage/book-covers/81/816215787e8e23d0865db0c523498eb2a32cee17.jpg)