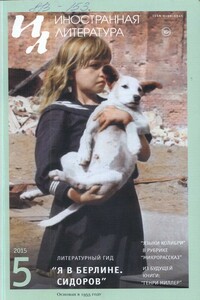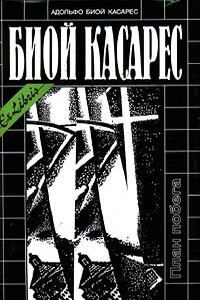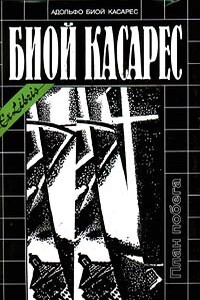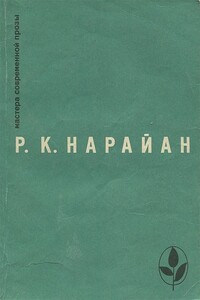На вокзале Конститусьон у журнального киоска (в ту пору здесь можно было подыскать неплохую книгу для чтения в пути) я повстречал холостяка Греве, с которым мы когда-то учились в лицее. Он спросил, что я тут делаю.
— Собрался в Лас-Флорес, — ответил я, — но по нелепой случайности приехал за час пять до отправления поезда.
— Не мне тебя учить, — сказал он. — Я собрался в Коронель-Принглес, но по нелепой случайности приехал за пятьдесят минут до отправления поезда. Не желаешь зайти в кафе?
Мы пошли в кафе, заказали что-то, и я произнес:
— Нередко замечаешь, что в жизни одна полоса сменяет другую. Сегодня у нас полоса ненужных совпадений.
— Ненужных? — переспросил Греве.
— Ненужных, — поспешил объяснить я, не желая его обидеть, — в том смысле, что они ничего не доказывают.
— Не уверен, — ответил он.
— В чем?
— В том, что они ничего не доказывают. Никогда.
Сказанное после паузы, наречие звучало как объяснение — скорее как объяснение загадочное, которое требовало моего вопроса и нового объяснения Греве. Все это обескуражило меня своей сложностью, и, поскольку действительно важным было убедить приятеля, что, говоря о совпадении в нашем случае как о ненужном, я вовсе не хотел назвать ненужной или досадной нашу встречу, я рассказал ему о раздвоении Сомерсета Моэма. Может, я рассказал эту историю потому, что всегда надеюсь встретить собеседника, который подскажет для нее литературную форму. А может, у меня становится привычкой повторяться.
— Это был рейс, — начал я, — парохода компании «Кьюнард» из Нью-Йорка в Саутгемптон. В ресторане моей соседкой по столу оказалась единственная соотечественница, находившаяся на борту, — пожилая сеньора, властная и неугомонная, с которой мы весьма подружились. Помню вечер, когда раздали списки пассажиров. Каждый с головой окунулся в поиски своего имени. Встревоженный — точно отсутствие в списке превращало меня в «зайца», — я так и не смог отыскать три магических слова... «Спокойно, — сказал я себе. — Разберемся». И тут меня осенило. А что, если эти болваны не поместили меня на букву «Б», а запихнули в «К»? И правда, в списке фигурировал некий «Кесарес, м-р Адольфо Б.», в котором я после недолгих сомнений признал себя. Моя приятельница, избегнув подобных затруднений, все же потратила немало времени на поиски и наконец торжествующе указала пальцем свое имя, напечатанное без ошибок. Меня, однако, больше заинтересовало стоявшее перед ним. Я прочел вслух: — «Моэм, м-р Уильям Сомерсет».
Возвысив голос, чтобы поправить меня, моя соседка прочитала свое собственное имя.
— Нет, сеньора, мне уже известно, как вас зовут, — возразил я. — Просто я удивился, обнаружив в списке пассажиров знаменитого романиста Сомерсета Моэма.
По блеску в ее глазах я понял, что имя ей знакомо. Разве можно сравнить аргентинскую даму прошлого с нынешними девчонками?! Совсем иная культура, иная интеллигентность.
— Сомерсет Моэм, — повторила сеньора. — Ну конечно, я ведь читала одну книгу, дело происходит в Тихом океане. Не знаю уж почему, но меня всегда увлекали все эти тайны Востока.
Она спросила, узнаю ли я Моэма и нет ли его в ресторане.
— Да, — сказал я, — мне приходилось видеть его на фотографиях. Но здесь его нет.
Оказывается, мне очень повезло, что его не было рядом, ибо сеньора заявила:
— Как только он появится, я подойду и скажу, что собираюсь представить ему аргентинского писателя. А что вы думаете? Скажу этому мистеру, что вы — большой писатель.
— Прошу вас, — пролепетал я.
— Все дело в том, — объявила она, — что мы, аргентинцы, слишком скромны.
— Скромность здесь ни при чем. Будет казаться, что мы напрашиваемся.
— Вот видите? — произнесла она тоном, каким разговаривают с детьми. — Скромность, ложная скромность, гордость — вечно одно и то же. Это болезнь аргентинцев.
Опасаясь обещанного знакомства, на следующий день я по возможности избегал сеньоры. Предосторожность оказалась излишней, ибо Сомерсет Моэм нигде не появлялся, словно путешествовал, укрывшись в своей каюте. Накануне прибытия я сопровождал мою соотечественницу в судовой полицейский участок и в магазин. Старуха не знала усталости — мы бегали по лестницам вверх и вниз, отказавшись от лифта. На промежуточной палубе, в мрачном углу, который оживал при заходе в порт, поскольку становился входным вестибюлем, мы застали такую картину: в кожаном кресле у фотографии малолетних отпрысков британского королевского дома, укутанный словно Филеас Фогг перед путешествием вокруг света в восемьдесят дней, сидел одинокий задумчивый старик, в котором я тотчас узнал Сомерсета Моэма. Видимо, грозящее знакомство уже воспринималось мной с безразличием и даже казалось невероятным (ведь оно постоянно откладывалось); в общем, я прошептал или, может, закричал, потому что сеньора была туга на ухо:
— Это он.
Лучше бы я этого не делал. Ни минуты не колеблясь, под сенью развевающегося, точно знамя, дорожного плаща моя приятельница ринулась в атаку. Помнится, при виде ее я подумал: «Жив еще боевой дух наших воинов, сражавшихся при Майпу, Наварро и Ла-Верде». Совершенно не сознавая бездарности своего английского, дама сумбурно изложила: