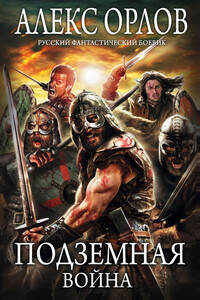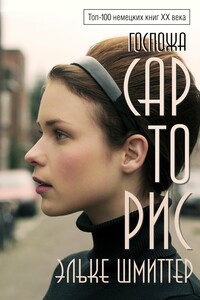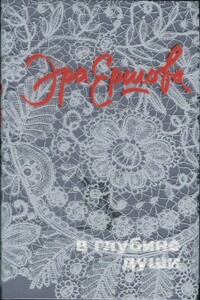Еще в низинах, где было больше влаги, осенняя чахлая трава к ночи замерзла и долго еще после восхода солнца была похожа на алюминий. Она трещала под лапами проходившей гуськом волчьей семьи, обозначая следы крупными темными пятнами, выступавшими из-под сбитого серебра мороза...
Около корявой березки на равнине сидел старый волк. Небольшие кочки, вытоптанная скотом еще в конце лета трава с пучками белоуса, канава, в которой стояла чуть-чуть было не замерзшая вода, лежавшая с круто закинутою головою и оскаленными зубами лошадиная туша, белевшая ночью и красневшая днем, были невидимы человеческому глаза в ночной мгле. Белела только равнина, особенно где было больше белоуса, — она была светлее серо-мутного неба, — да чернел за равниной стеною хвойный лес, потому что он был темнее неба. Волк же в этой мгле видел все.
Он был стар. Шерсть на пахах вытерлась и не вырастала, да и на всем теле она обсеклась, стала короче, и даже линька не давала ей нужного толчка. Желтизна старила матерого, а что хуже всего - зубы были либо поломаны, либо стерты до уровня десен.
С тех пор, как он потерял свою подругу, приходилось жить одиночкою, так как сбиваться в компанию при таких условиях нельзя: и нечем защищаться, нечем и помогать, да таких и не принимают... Хорошо, что летом можно кормиться парною дичью, для которой не нужно зубов, и хорошо, что еще не наступили зимние стужи, которые при находке твердой, как железо, падали, вызывают мучительное слюнотечение. Теперь он так хорошо поживился не застывшею тушею лошади, съев все внутренности и чувствуя потребность в крепком продолжительном сне на мшистом покрове под зонтами хвои...
Долго сидел старик вместо того, чтобы спозаранку, под прикрытием темноты, отправиться на дневку в уютный хвойный остров. Его удерживала, казалось, не то лень, не то нега. Он лег тут же, мордою по направлению к падали, но вскоре опять привстал и сел. Правда, сидя, ему слышнее были малейшие звуки и виднее на расстоянии. Но к чему это нужно в такую мглистую спокойную ночь? Тело его опять потянуло было к земле, но рассудок остановил его: как можно ложиться и дремать в таком месте, которое привлекает внимание всех хищных животных, в том числе и человека? 3адремать здесь — значит с большою вероятностью подвергнуться опасности и, во всяком случае, напрасной неприятности, так как обнаружить свое присутствие зря, без всякой надобности, без расчета на выгоду, уже доставляет волку всегда большое огорчение. Дремота, однако, брала свое и манила в лес. Он встал, потоптался, повернулся спиною к падали, ступил несколько шагов по направлению к отдаленной черной стене леса, но опять вернулся на то же место, медленно, старчески согнул задние ноги и сел, с усилием подведя вплотную к ляжке неудобно распростертый хвост: нельзя оставлять без охраны такие мясные запасы, когда еще еле полночь.
И вновь эта забота заставила его бодрствовать.
Волку не так-то легко дается бодрствование после сытного обеда, — и поэтому в голову ему пришла мысль выесть в туше как можно больше мякоти и идти спать: все же то, что будет сейчас поглощено, будет взято с собою! Но он был сыт, — внутренности лошадиной туши могут вполне насытить волка и с лучшим аппетитом и дать такой веский объем, с которым далеко не поскачешь. Пришлось рвать мясо с осторожностью, так как десны были поранены каким-то предметом во время первого ужина. Поев немного, он предпочел отойти и сел на прежнее место.
Сидел старик опять на той же обсиженной чахлой траве, и хотя торфянистая почва не пружинила, как мягкий рыжий ковер соснового мшарника, но все же сидеть было хорошо, и это давало уже отдохновение.
Поблекшие травы не только ночью, но и днем сливались с окрасом одежды матерого, а мгла осенней ночи действовала совсем успокоительно. В этот его любимый уютный сезон можно получить хороший отдых, сидя и мечтая ночью даже вблизи человеческого жилья.
Моргал старик, глядел вперед малоподвижным взором, отвлекался ловлею беспокоивших его блок, которые трудно поддавались беззубым челюстям и заставляли его шипеть уткнутым в шерсть носом.
Отчесавши с удовлетворением лапою бок, он поднял повыше голову, устремляя взгляд вдаль, и задумался о прошлом.
...Первым днем, с которого он себя помнит, был выход его из земляной котловинки, под сползавшей с возвышения елки. Чело этой котловины было завешено, как шторою, болтавшимися корнями ели.
Вылез он из темноты, увидал пятнистое сплетение трав, рисунчатые тени папоротников, которые были для него лесом, и поразило его какое-то привлекательное движение струившегося воздуха, который, как магнит, манил к себе, притягивая чем-то таким, что было непонятно, но что повелительно звало к себе. Потом он понял что то, что манило, было загадочное течение воздушных волн, несших чутью, как лепет слуху, откровение обо всем, что делается на расстоянии...
Когда он прозрел, он не был удивлен, что видит предметы вокруг себя: зрение появилось незаметно, как будто он всегда обладал им.
Но чувство обоняния родилось неожиданно. Он почувствовал его как-то внезапно и способен был оценить его: оно чуть ли не стало смыслом и целью жизни, дало ему больше соблазнов и радости, чем зрение, и вместе со зрением оберегало его жизнь.