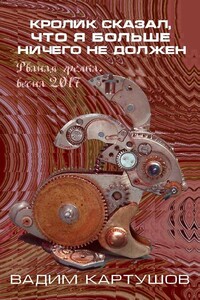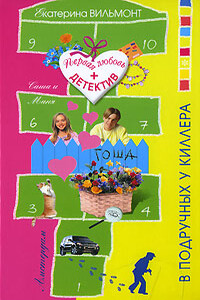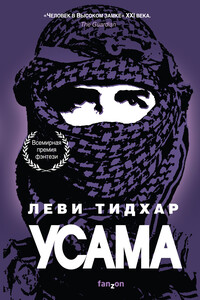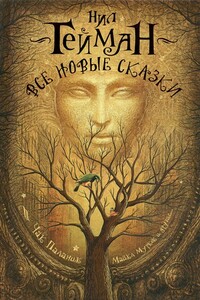1.
Я просыпаюсь, когда над городом встает заря. Я иду на балкон.
Фонари над улицей давно погасли. На проспекте пыхтит ранний трамвай. Нежно-розовый свет подкрашивает грязные крыши, пробивается сквозь трубы паровых коммуникаций. Снег на крышах искрится, словно темный бархат под прожектором. Силуэты радиоантенн на крышах плавятся и подрагивают. Розовый свет переходит в желтый, желтый переходит в оранжевый. Серые стены домов тонут в огненном зареве. Птицы поют, а воздух свежий и сладкий, как березовый сок.
Это омерзительно и невыносимо.
— Хесус, вам письмо, — скрипуче говорит почтальон Ириска из-за входной двери.
Я не знаю, как его зовут. Этот почтальон обслуживает наш район, кажется, с первых дней творения. Когда мы были детьми, он уже был старым. Он все время жует ириски — говорит, это полезно для зубов. Весь район смеялся над его глупостью про эти ириски. Но ему примерно тысяча лет, а зубы у него до сих пор свои. И не все, кто смеялся над почтальоном Ириской в нашем детстве, могут посмеяться над ним сейчас. Потому что они мертвы, а Ириска жив, пусть полуглухой и полуслепой. Это ему впору смеяться над ними.
Я открываю дверь и забираю тяжелый конверт, запечатанным корпоративным сургучом «К&К». Я вижу клеймо своего работодателя. Под ложечкой неприятно сосет, в районе солнечного сплетения словно расплывается вязкое холодное пятно. Ириска синей почтовой фуражки.
— Спасибо, сумасшедшее обезьянище, — благодарю я.
— Вам спасибо, господин, — снова кланяется Ириска.
Он глуховат, я же говорил, да?
Ириска сбегает вниз по лестнице, подпрыгивая и болтая сумкой с письмами. Как он не разваливается, черт престарелый? Внезапно стреляет в спине, и я охаю.
— Песок за собой подмети! — кричу я ему вслед.
— И вам дня хорошего, господин Хесус! — отвечает Ириска, и его голос гулко разносится между стен парадного.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Меня раздражает весна и пение птиц, я ненавижу солнце, я издеваюсь над добрым стариком, как будто мне десять лет, у меня осталось денег примерно на месяц довольно паршивой жизни.
И судя по письму из продюсерского отдела «К&К», я уволен.
Я не хочу его вскрывать. И так все понятно.
2.
Если я пойду в бар «Цайтгайст» и буду пить самый бюджетный коктейль «Андеграунд», состоящий из двух третей угольного самогона и трети игристого брюта, то оставшихся после вечера марок мне хватит примерно на неделю жизни. Разумный человек, который уверен в себе, умеет строить стратегию и принимать верные решения, станет беречь деньги и искать работу.
Я иду в бар.
Среди всех баров нижних уровней «Цайтгайст» выделяется тем, что там собирается рекордное количество богемных ублюдков без денег. Мамкины поэты и бабулины инфернальные мистики. Я никогда не был богемой, я не умею носить манжеты, и у меня есть профессия. Но мне нравятся их беретики с енотовыми хвостами и засаленные рединготы. Даже иногда нравятся их стихи и бестолковые попытки работать в жанре гишпрехенварта. Еще они умеют пить как последние сволочи, словно у них вместо печени кантовский протез.
Сегодня поэтические чтения. Пожилой мужчина с гнездом лысины на голове читает со сцены нараспев, картавит и волнуется:
В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой,
и одна в углу говорила мне: «Молодой!
Молодой, поди, кому говорю, сюда».
И я шел, хотя голова у меня седа.
А в другой — красной дранкой свисали со стен ножи,
и обрубок, качаясь на яйцах, шептал: «Бежи!»
Но как сам не в пример не мог шевельнуть ногой,
то в ней было просторней, чем в той, другой.
[1]Именно в этом баре я познакомился с Соледад.
Тогда был концерт «Пустынных червей», такой глупый пост-кабаре бэнд с сандинским барабанщиком, все вечно под насваем и с безумными глазами. К ним на концерты ходят одни малолетки.
Соледад и была малолеткой.
Она стояла в огромной очереди вместе со всем этим месивом в рединготах и беретах и немного танцевала, не сходя с места. Черные снежинки таяли на ее черных волосах. В какой-то момент луч газового фонаря скользнул по ее волосам, и те заискрились, в них словно звезды замурлыкали. У Соледад был рюкзак с вышитыми котенками, и котенки тоже словно замурлыкали. Я пропал абсолютно, напрочь пропал, как будто луч фонаря отразился и ослепил меня, сжег сетчатку к чертовой матери, спалил все нейроны в голове.
Впрочем, я всегда был влюбчивым, и всяческие котенки мурлыкали раз в квартал. А тогда я был еще и пьяным. Какой трезвый взрослый человек пойдет на концерт «Песчаных червей»?
Я подошел к Соледад (тогда я еще не знал, что она Соледад) и спросил:
— Есть билетик?
— Пошел в задницу, — ответила Соледад и искристо улыбнулась.
— Манеры у тебя не очень, но я готов их исправить, — сказал я.
— Исправь себе что-нибудь пониже пояса.
— Можно, я тебя за ушко укушу?
— Конец очереди вон там, — сказала Соледад.
Я хотел что-то остроумное пошутить про конец, но ничего не смог придумать. Меня спас привратник, который внезапно открыл дверь в бар. Толпа осатаневших мелких уродцев ломанулась на вход. Мостовая у входа в «Цайтгайст» была не очень — разбитая и покрытая коркой льда со снегом. Соледад толкнули, она почти упала и выронила свой котенковский рюкзак. Меня тоже толкнули, но в падении я вывернулся и смог ее рюкзак поймать. Она упала на меня сверху, и я одним рывком перевернулся так, чтобы ее не затоптали.