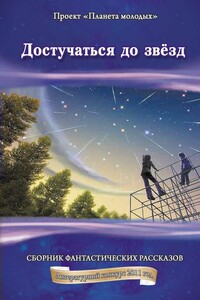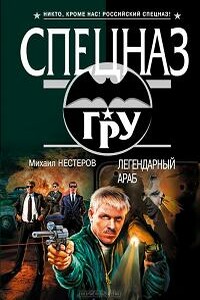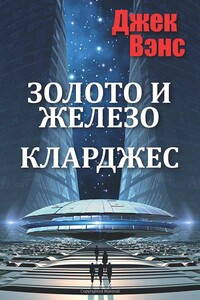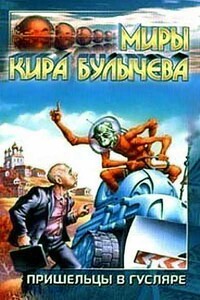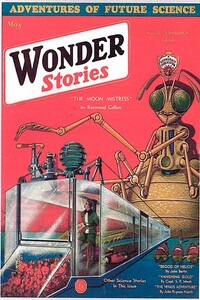Опыт визуально-акустической «расшифровки» поэтических образов.
Получить сегодня достоверные сведения о жизни и творчестве таких литераторов древности, как, скажем, Гомер, Матфей или наш легендарный Боян, практически невозможно: история в этом отношении довольно безжалостна и не оставляет нам иногда не то чтобы биографических подробностей, но даже имен интересующих нас авторов. И тем не менее в случае с Гомером мы можем вполне рассчитывать на определенный успех, ибо о певце Троянской войны свидетельствуют такие могучие первоисточники, как «Илиада» и «Одиссея».
Ведь если предположение о слепоте Гомера имеет под собой реальную почву, то в фундаменте его поэтической образности должны преобладать — просто не могут не преобладать! — не визуальные, а именно слуховые и осязательные ассоциации, ибо слепой человек воспринимает окружающий мир лишь на слух и на ощупь. Так, например, если нормальный зрячий писатель, описывая дуб или, допустим, баобаб, скажет, что он «высокий», «раскидистый», «зеленый» или, если это осень, «желтый», то слепой, дотронувшись до коры его ствола руками, назовет его «шершавым», «неохватным», а если в это самое время в его вершине гудит ветер, то еще и «шумным» или — как выражались в античности — «пышношумящим». Скрыть слепоту — дело для пишущего невозможное. Даже если допустить, что Гомер создавал свои поэмы на основе уже существующих фольклорных сказаний и использовал их готовые образы, то и в этом случае следы осязательно-звукового восприятия мира составили бы такой «процент», что не заметить его было бы невозможно. Однако ничего подобного в «Илиаде» нет: как никакое другое произведение античности, она переполнена красками, портретами и визуальными наблюдениями автора над действительностью. «То, чего нельзя охватить взором, для Гомера просто не существует, — замечал исследователь его творчества С. Маркиш. Выражение „художник слова“ применимо к Гомеру в своем прямом и первом значении: он доподлинно рисует, он лепит словом, так что созданное им зримо и осязаемо… Такая убедительность невозможна без особой, редкой остроты глаза…» Острота глаза и слепота несовместимы, а любая, наугад открытая нами страница «Илиады» свидетельствует именно об этой самой остроте, являя на свет изобилие поэтических образов, созданных на основе исключительно зрительных ассоциаций.
Мы говорим сейчас не о таких из них, как «золотой жезл», «черное судно», «багряное вино», «парусы белые» или «Аполлон сребролукий», и других, являющихся канонически устоявшимися образами-стереотипами, своего рода общепринятыми поэтическими штампами. Речь в данном случае идет о действительном внимании Гомера к деталям, о подробнейшем описании им всевозможнейших атрибутов вооружения и предметов быта, а также пейзажей и портретов, которые невозможно описать так зримо, ни разу в жизни их — или хотя бы их аналогов в природене видев. Примеров таких зрительных образов в «Илиаде» немало, для их демонстрации пришлось бы, наверное, переписывать здесь едва ли не половину поэмы, поэтому мы позволим себе ограничиться упоминанием только о некоторых из них — ну, например, о таких, как описание знаменитого щита Ахиллеса в XVIII Песни, которое мы не приводим здесь исключительно из-за невозможности его полного цитирования.
Что касается поэтической образности «Илиады», то Гомер в ней не просто «в высшей степени обстоятелен в описании какого-либо жезла, скиретра, постели, оружия, одеяний, дверных косяков» и прочего, как это отмечал еще Гегель, но он снабжает свой рассказ массой именно таких мельчайших штрихов, какие человеку, лишенному зрения, вообще не могут быть известны! Среди них, к примеру, такая характеристика спустившегося тумана, как упоминание о том, что «видно сквозь оный не дальше, как падает брошенный камень», а также описание пара над разгоряченными конями, бледности лиц при испуге, седины на волчьей шкуре, следа за колесницей и многого другого. И, что характерно, зрительные образы не просто срисовываются с натуры сами по себе, но еще и постоянно подкрепляются дополнительными характеристиками опять же таки зрительного порядка. Более того: даже звуковые характеристики — и те в «Илиаде» имеют тенденцию постоянно усиливаться характеристиками зрительными, благодаря чему эмоциональные интонации переносятся с голосов на мимику: «смотря свирепо, вещал», «грозно взглянув на него, отвечал», «так он в слезах вопиял» — и тому подобное. Абсолютно противоположная картина открывается нам в «Одиссее».
В отличие от «Илиады», наполненной в основном лишь фоновым ревом нескончаемого побоища, в котором раздаются неотличимые в своей громогласности одна от другой речи героев да грохоты каких-то чуть ли не бутафорских, помузейному пустотелых, падающих доспехов, «Одиссея» от начала и до конца насыщена тончайшими звуковыми оттенками самого широкого диапазона — здесь и «осторожно сказал», и «с гневом отвечала», и «кротко отвечал», и «негодуя, воскликнул», и «отвечал насмешливо», и «дружелюбно сказал», и «прошептал», и «дико завыл», и «слыша тяжкие вздохи», и «охая, с кряхтеньем», и множество самых разнообразнейших проявлений человеческого голоса. Как «Илиада» тонула в зримо-цветовом изображении деталей визуального характера, «Одиссея» тонет в звуках: здесь раздаются песни аэдов, щелканье, свисты; здесь поют волны под килем, скрипит натягиваемый лук, звенит тетива, жужжит летящий камень, визжит бурав, играет музыка…