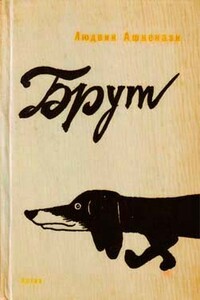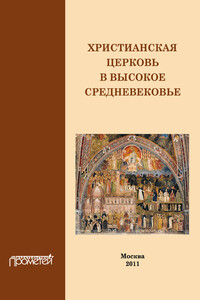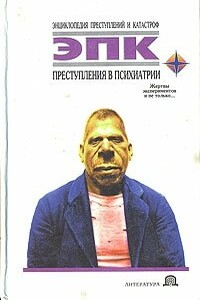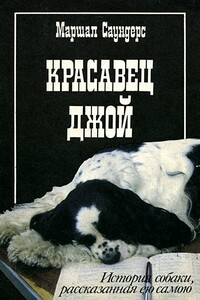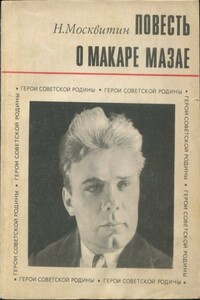Как прекрасно служить, — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Какое возвышенное занятие носить корзинку! Пойду помедленней, чтобы продлить удовольствие.
Пес Брут, немецкая овчарка, вяло брел по улице Гумбольдта, что в Праге на Виноградах. Смотрел он прямо перед собой с выражением не слишком сосредоточенным; плетеная корзинка с покупками покачивалась у него в зубах. В корзинке лежали две пресные булочки, три сигареты, завернутые в «Дер Нейс Таг», и одна черная, некрасивая и чуточку подгнившая брюквина.
Его вялость не была врожденной. Эта вялость была преднамеренной и сибаритской. Пес Брут так продлял томление своего сердца. Много уже было написано про собачью верность, но никто, пожалуй, еще не сказал, что верность — это вместе с тем и наслаждение. Кто служит своей любви — тот поистине получает свое…
В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей. Только почтовую клячу, которая каждое утро стояла здесь перед пивной вот уже целых восемнадцать лет. Это была благодушная кобыла, но еще не смирившаяся целиком со старостью и поэтому завистливая. Она завидовала легкости ног, легкой ноше, а тем самым и легкой жизни Брута. Кобыла никак не могла себе представить, что кто-то всю жизнь ходит без почтового фургона и к тому же видит обоими глазами сразу. Брута она всегда наблюдала левым глазом, а правым смотрела на второй тротуар, где завидовала другой собаке.
Перед кобылой Брут замедлил шаги, вызывающе раскачал корзинку и лишь издали втянул в себя лошадиный запах, чтобы убедиться, сколько кобыле еще осталось жить. Он ждал, что кобыла как можно раньше околеет, со дня на день.
И тайком жаждал, чтобы это случилось перед пивной.
Однажды очень давно, еще до войны, когда кобыла была в теле, снился ему собачий сон, что само по себе явление крайне редкое; снилось ему, что он вел стаю серых волков, гнавшихся по снегу за почтовым фургоном. Тогда они загрызли почтовую кобылу. И с тех пор Брут чувствовал пряный запах ее крови. Этого он стыдился, потому что был домашним псом в семье классического филолога. И даже знал одно латинское слово: Брут.
«За кобылой запахнет гуляшем или соусом на перце, — сказал себе Брут. — Там, быть может, я на минутку остановлюсь: это единственное место на всей улице, где варят мясо уже на завтрак и к тому же оставляют окно открытым».
Этих людей Брут уже обнюхал до последней косточки и не мог сказать, чтобы они ему нравились. Знал, что они часто приподнимают занавеску, когда он здесь прогуливается с Хрупкой, а то, что они говорят при этом, — падает, как плевок.
В подтверждение чувств, испытываемых Брутом, можно заметить, что за окном, где варили мясо уже на завтрак, жил дворник, который был платным доносчиком гестапо. У него был брат мясник, а дочка вышла замуж за кулака; жил он, таким образом, на всю катушку, жрал жирно и время от времени на кого-нибудь доносил. Просто так, для порядка.
Что бы я сделал, думал про себя Брут, если бы они когда-нибудь налили в тарелку соуса и выставили мне через окно на тротуар?
Из врожденной деликатности он на этот вопрос себе не ответил. Только облизнулся и глубоко в душе заскулил: уже давно он не наедался досыта, его хозяйка была теперь бедной, а квартира — полна голода. Он не сердился на нее за это, потому что как все псы, но не все люди, Брут догадывался, что полная миска — это еще не полная жизнь.
Брут принялся думать о своей хозяйке и о том, как вручит ей корзинку. Оставалось еще три дома и много ступенек. Потом заскрипят двери, Хрупкая кивнет ему головой, и в этом кивке будет все, что может получить пес за принесенную корзинку: что, дескать, есть война и есть голод, но, несмотря ни на что, еще жива и любовь и жива преданность.
На каждом этаже был свой запах. В бельэтаже жил дантист, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Через бельэтаж Брут проходил быстро и с отвращением: он подозревал, что за этой дверью причиняют боль людям, а что еще хуже — может и собакам. Через щели, замочную скважину и дверной глазок непрерывно вырывались облачка эфира и какое-то странное зловоние гноя. Лишь в некоторые дни Брут останавливался тут — когда звонили дамы. К ним он испытывал особое расположение и жалость, в которых рикошетом отражалась его большая любовь к Хрупкой.
Мысленно он предостерегал их, а потом шагал себе дальше, на следующий этаж, где пахло кипяченым молоком и прокипяченными пеленками.
Третий этаж был весь во власти тончайшей пыли, что садится на книги, а на четвертом уже пахло Хрупкой: сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут себе ткани. Этот запах был как шерсть Ливии, матери Брута, которая в молодости стерегла овец где-то в Калабрии.
Мало знают люди о собачьем сердце; мало знают о той большой любовной силе, что передается прикосновением пальцев, взъерошиваемой шерстью и теплым взглядом. Лишь мгновение Брут смотрел всегда в человечьи глаза, а затем быстро отворачивал голову, чтобы опередить перемену взгляда. Чтобы сохранить, что ему было дано, и унести полученное. Никто лучше пса не знает, сколь переменчива людская благосклонность…