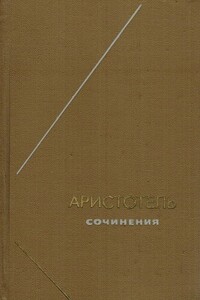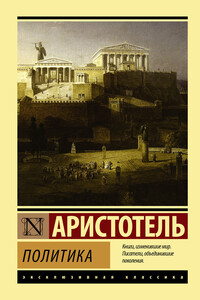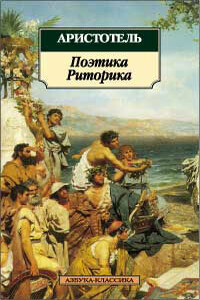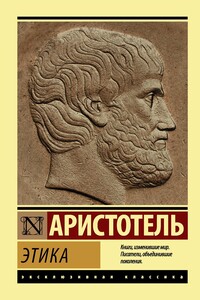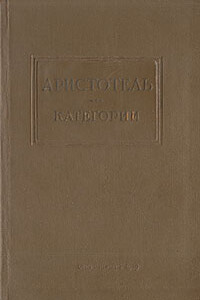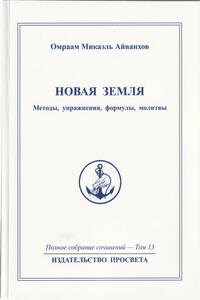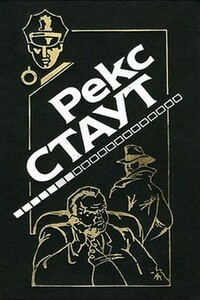1. Собираясь говорить о вопросах этики (ethikon), мы должны прежде всего выяснить, частью чего является этическое. Всего короче будет сказать, что этическое, по-видимому,— составная часть политики[1]. В самом деле, совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не будучи человеком определенных этических качеств, а именно человеком достойным. Быть достойным человеком — значит обладать добродетелями[2]. И тому, кто думает действовать в общественной и политической жизни, надо быть человеком добродетельного нрава. Итак, этика, по-видимому, входит в политику как ее часть и начало (arche)[3]; и вообще, мне кажется, этот предмет по праву может называться не этикой, а политикой.
Так что прежде всего, как видно, надо сказать о добродетели, что она такое и из чего возникает (ek tinon ginetai), ведь, пожалуй, бесполезно иметь знание о добродетели, не понимая, как и из чего она появляется. В самом деле, нам надо ее рассмотреть, не просто чтобы знать, что она такое, по и чтобы знать, каким путем она достигается, коль скоро мы хотим не только понимать ее, но и сами быть добродетельным», а этого мы не сможем без знания, из чего и как она возникает. Словом, знать, что такое добродетель, надо потому, что трудно понять, из чего и как она возникает, не зная, что она такое,— как во всех науках. Но не следует упускать из виду и того, что говорили об этом другие.
Первым взялся говорить о добродетели Пифагор, но рассуждал неправильно. Он возводил добродетели к числам и тем самым не исследовал добродетели как таковые[4]. Ведь справедливость (dikaiosyne), например,— это вовсе не число, помноженное само на себя.
Потом пришел Сократ и говорил о добродетелях лучше и полнее, однако тоже неверно. А именно он приравнял добродетели к знаниям, но это невозможно. Дело в том, что все знания связаны с суждением (meta logoy), суждение же возникает в мыслящей (dianoetikoi) части души, так что, если верить Сократу, все добродетели возникают в разумной (logistikoi) части души. Получается, что, отождествляя добродетели с науками, Сократ упраздняет внеразумную (alogon) часть души, а вместе с нею и страсть (pathos), и нрав. Этим его подход к добродетелям неверен. После него Платон верно разделил душу на разумную и внеразумную части, каждую часть наделив подобающими добродетелями. До сих пор у него все хорошо, но после этого — опять неверно. Платон смешал и связал добродетель со своим учением о высшем благе и поступил неправильно: это благо не имеет отношения к добродетели как таковой. Ведя речь о бытии и об истине, он не имел оснований говорить о добродетели, поскольку они не имеют с нею ничего общего[5].
Вот в какой мере и как затронут [вопрос философами]. Теперь, после них, посмотрим, что мы сами должны говорить об этих вещах.
Во-первых, надо обратить внимание на то, что у любой науки (epistmes) и умения (dynameos) есть какая-то цель и эта цель есть всегда некое благо: ни одна наука, ни одно умение не существуют ради зла. И если благо — цель всех умений, то очевидно, что целью высшего умения будет высшее благо. А высшее умение, несомненно, политическое искусство, так что именно целью политики будет высшее благо. Нам нужно, стало быть, говорить о благе, причем не вообще (haplos) о благе, а о нашем благе,— ведь мы не должны говорить здесь о благе богов, потому что о нем другое учение и исследовать его надо иначе[6]. Итак, наше дело говорить о благе в общественной, политической жизни.
Опять-таки и его надо подразделить. О благе в каком смысле? Оно ведь не однозначно. Благом называется либо то, что является лучшим для каждого сущего, т. е. нечто по самой своей природе достойное избрания, либо то, что делает благими другие причастные ему вещи, т. е. идея блага. Надо ли говорить об идее блага или[7], скорее, благо есть то общее, что присущее всему благому? А [благо как такой общий признак] явно не тождественно идее блага. Идея блага — нечто отделенное (khoriston) и существующее само но себе, общее же присутствует во всех вещах и, конечно, не тождественно отделенному, потому что отделенное и существующее само по себе не может находиться во всех [единичных предметах]. Итак, о том ли благе мы должны говорить, которое присуще всем единичным вещам, или не о нем? [Не о нем.] Почему? Потому что это общее существует на правах определения (horismos) и результата индукции (ераgoge).
Определение имеет целью назвать сущность каждого [предмета и говорит], что [предмет] хорош, плох или еще какой-нибудь; и определение именует такое-то благо как благо вообще, т. е. как нечто само по себе достойное избрания. То, что принадлежит всем вещам как их общий признак, подобно определению. Но определение говорит: то и то есть благо. Между тем никакая наука и никакое умение не заявляют о себе, что их цель — благо, это рассматривает какое-либо другое умение. Так, ни врач, ни строитель не говорят, что здоровье или дом — это благо, но говорят: один — что такие-то вещи создают здоровье и как именно создают, другой — что [такие-то вещи создают] дом. Соответственно и политика, очевидно, не должна рассуждать об этом благе вообще, поскольку и она такая же наука, как остальные. Ни одно умение, ни одна наука не скажут, что цель у них — благо вообще. Стало быть, не дело политики рассуждать о благе вообще, существующем по способу определения.