И я, любви искатель жадный…
Александр Пушкин
«Чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости? – вопрошал некогда Пушкин друга Дельвига, – как не воспоминаниями… Но разнообразие спасительно для души».
Как неожиданно замечание поэта о «спасительном разнообразии» перекликается с этими поэтическими строками!
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы?
Скольким же красавицам (да и некрасавицам), столь не схожим и внешне, и характерами, дарил своё драгоценное внимание Александр Сергеевич! Не все из воспетых Пушкиным достигли преклонных лет, – увы, слишком быстротечной оказалась судьба. Так и остались они в отечественной поэзии вечно юными…
Другим же, намного пережившим поэта, посчастливилось стать очевидицами его посмертной славы, великого триумфа. Так, красавица-полька Каролина Собаньская дожила до девяноста одного года (вот уж поистине муза-долгожительница!), очаровательная графиня Елизавета Воронцова – до восьмидесяти семи лет, умница Анна Оленина – до восьмидесяти, пленительная Анна Керн – до семидесяти девяти, баронесса Евпраксия Вревская, милая Зизи, – до семидесяти трёх…
Лета по тем временам, да и по нынешним почтенные.
Но в пушкинскую эпоху восприятие женского возраста было совсем иным. Стоило перешагнуть сорокалетний, даже тридцатилетний рубеж, и вот она, старость, на пороге!
Предмет недолгого увлечения Александра Сергеевича – Аглая Давыдова. Француженка, урожденная герцогиня де Граммон, супруга генерал-майора, знакомца поэта по Каменке. К ней, кокетке «со стажем» (ах, как не любил Пушкин дамское жеманство!), обращены его саркастические, а порой и вовсе обидные строки:
И вы поверить мне могли,
Как простодушная Аньеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет – не многим боле…
А Пушкину чуть больше двадцати. И роман развивается по стандартным лекалам:
Сначала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый…
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись… потом… увы!
Потом забыли клятву нашу…
Всё в прошлом, и речи не может быть о новой любовной игре:
Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей —
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату…
Да, нужно соответствовать летам, меняясь с ними не только внешне, что неизбежно, но и духовно. Много позже Пушкин размышлял о природе женского кокетства: «Coquette, prude. Слово кокетка обрусело, но prude не переведено и не вошло ещё в употребление. Слово это означает женщину, чрезмерно щекотливую в своих понятиях о чести (женской) – недотрогу.
Аграфена Фёдоровна Закревская, урождённая Толстая.
Художник Е. Гейтман. Литография с оригинала Д. Доу. 1827 г.
Аграфена Закревская.
Рисунок А.С. Пушкина. Осень 1828 г.
Таковое свойство предполагает нечистоту воображения, отвратительную в женщине, особенно молодой. Пожилой женщине позволяется многое знать и многого опасаться, но невинность есть лучшее украшение молодости. Во всяком случае прюдство или смешно, или несносно».
Почему и поэтическое посвящение любвеобильной мадам Давыдовой, – кстати, вошедшей в известный «донжуанский» список, – Пушкин именует «Кокетке»:
Кокетка злых годов обиды…
«Смотри: не даром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона», – наставляет поэт молодую жену, пытаясь предостеречь её от пошлых, не аристократических манер.
Вот уж кого миновала та несносная для Пушкина женская слабость, так это его любимую героиню, «милый идеал», Татьяну Ларину. Годы, будто наперекор природе, послужили обрамлением её расцветшей зрелой красоте. Столь разительного примера у Пушкина более не найти. Но вспомним, в свои младые лета Татьяна слыла чуть ли не старой девой, что немало тревожило соседей: «Пора, пора бы замуж ей!..» А старушка Ларина мечтала «пристроить» дочь, памятуя, что «Оленька её моложе».
Да и устами испанского гранда в «Каменном госте» Пушкин предаётся размышлениям о быстротечности красоты:
>Дон Карлос
Скажи, Лаура,
Который год тебе?
>Лаура
>Дон Карлос
Ты молода… и будешь молода
Ещё лет пять иль шесть. Вокруг тебя
Ещё лет шесть они толпиться будут,
Тебя ласкать, лелеить и дарить…
Значит, сеньориту двадцати пяти лет уже не будут «серенадами ночными тешить», да и её ровесницу, русскую барышню, вряд ли потревожат пылкие признания. Посему и свою тригорскую соседку Анну Вульф, грезившую о страстной любви, Пушкин то ли предупреждал, то ли наставлял:




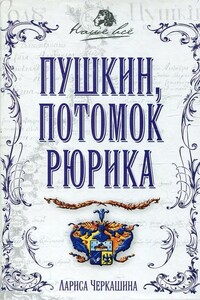



![Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/storage/book-covers/ef/ef65d477f8104182ba0dcc722a24ef21fa96d37b.jpg)









