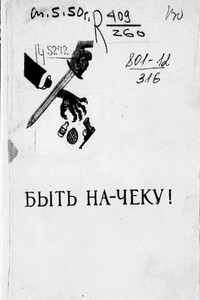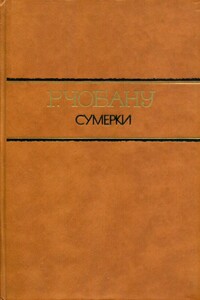Юрий Дружников
Без намордника, без поводка, даже без ошейника
Источник: Литгазета, 21 апреля 1993.
Со времен Курбского, а то и раньше, русская литература живет частично на чужбине. Слово это последнее не нейтральное, с душком неприязни, хотя Пушкин, например, вкладывал в него то иронию, то симпатию. Эмигрировали авторы как по своей воле, так и под давлением обстоятельств, но азимут всегда был от несвободы к свободе.
Практически вот уже более двух веков Запад демонстрирует полную либерализацию мысли для своих пришельцев. Недавно один мой приятель, новозеландский славист, раскопал в Парижском полицейском архиве уйму новых доносов сексотов на Тургенева. Оказалось, что не только русская тайная полиция прослеживала его активность за рубежом, но и французская, считая автора "Муму" отнюдь не немым царским шпионом.
Но вот что важно: слежка никак не сказалась на литературном самовыражении Ивана Сергеича в Париже, в отличие от продолжавшихся цензурных ограничений для него на родине. К тому ж и случай с Тургеневым был все-таки исключением. Не будем преувеличивать интерес властей на Западе к русской литературе и ее представителям.
Как-то, уже в эмиграции, то есть лет через двенадцать после исключения из Союза писателей, меня пригласили в Вашингтон прочитать лекцию для дипломатов о политических аспектах советской литературы. После ответов на вопросы слушателей подошел элегантный молодой человек с платочком в кармане под цвет галстука и, протянув визитную карточку, представился. Он был из ЦРУ.
-- Очень приятно, -- усмехнулся я. -- КГБ со мной знакомился, а ЦРУ никогда.
-- У меня деликатный вопрос, касающийся одного из ваших коллег, -осторожно сказал он. -- Не знаете ли случайно: правда, что у Пушкина была негритянская кровь?
Как бы вы поступили на моем месте? Сообщить или не сознаваться?
-- Правда, -- признался я.
-- А правда ли, что его преследовали?
-- Тоже правда.
-- Это потому, что он негр! -- объяснил он и удовлетворенный ушел.
Цереушник этот сам был чернокожим и по-своему понял проблемы русской литературы.
"Свободa здесь -- читатель там", -- говорил мой покойный друг Сергей Довлатов. Поскольку пишу эту статью, находясь в Москве, добавлю: а теперь и свобода тут, но добавлю, замедлившись, без особой уверенности. Дело в том, что свобода русского писателя на Западе по сравнению с тутошней (как бы точнее выразиться?) нейтральней. Меньше нервов, меньше болезненности. Здесь свобода все еще групповая. Кругом табу -- уже не цензурные, не политические даже, но конъюнктурные. Сказал критическое слово о Юрии Трифонове (при общем хорошем отношении), а у меня его из интервью выкинули. Спрашиваю:
-- Почему? Ведь я этот пассаж там еще несколько лет назад опубликовал.
-- Ну, старик, это не в интересах дела.
Чьего и какого-такого дела?
На Западе мое писательское мнение -- просто мнение, а здесь -- оно все еще делится на полезное и вредное, преувеличивается роль слова как некоего инструмента политического манипулирования. В печатном органе, который я упомянул, сказать об изъяне прозы Трифонова нельзя, он "наш". В редакциях все еще спрашивают: "Чей он человек?", "Кому это выгодно?", "На кого вы ориентируете свои мысли?", "А полезно нам в данный момент затрагивать эту тему?". Так редакторы, на этот раз добровольно, втягивают себя в несвободу слова, в опасное торжество единого мнения, которым все давно сыты по горло.
Вообще, оба (три, десять мнений) имеют равные права на равное существование, ведь все они только слова. Желание поэта, чтобы к штыку приравняли перо, сегодня уместно, если только трибун этот состоит в какой-нибудь террористической организации. А в Москве литература все еще кое-кем почитается за горячительный напиток, вроде стакана водки перед атакой. В эмиграции обретаешь дистанцию. Особенно для прозы она незаменима: в ней ведь все правы, или, по меньшей мере, имеют свои мотивы и оправдания.
Веками русское инакомыслие утекало и вытеснялось на Запад. Самиздат просачивался сквозь решетку и тем же манером возвращался в виде Тамиздата. Литературная эмиграция спасала и сохраняла духовные сокровища метрополии, рукописи, целые архивы, особенно в периоды застоя на родине. Но всегда обе части литературы были сообщающимися сосудами, хотя с восточной стороны краник то и дело перекрывали. Тут следили (уместно ли прошедшее время?) за всеми нами там. И не жалели денег на усилия в манипулировании словами на других континентах.
Несчастного Куприна, в зависимости от его встречи с Лениным, высказываний там и возвращения сюда, трижды переводили из оторвавшегося в присоединившегося, из друга во врага, из врага в друга. А закончили, посулив его жене манну небесную и всучив ей советские паспорта, сочинением липовых патриотических интервью с писателем, вернувшимся в старческом маразме. Как эта кухня готовила блюда, наше поколение журналистов и писателей не только хорошо знает, но и участвовало в этом и, само собой, испытало на себе.
Чего уж там! Тяготы для писателя сегодня ощутимы в обоих сообщающихся сосудах, что доказывает их неразрывность. Не о себе говорю: у меня вывезенные по-тихому саженцы теперь пускают корни на родине. Переселение в эмигрантскую литературу было для меня единственным шансом выжить, сказать, что хочу и могу, состояться. Теперь слышу, что эмигрантская литература была временной, вынужденной -- и с этим категорически не согласен.