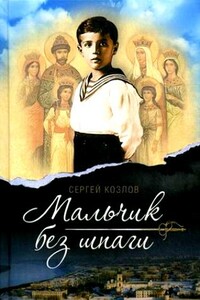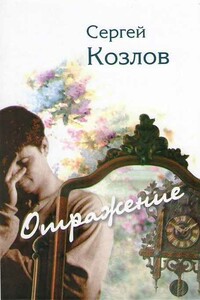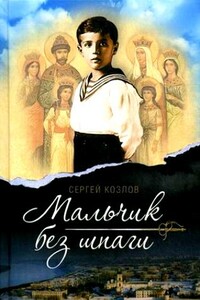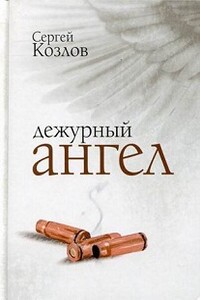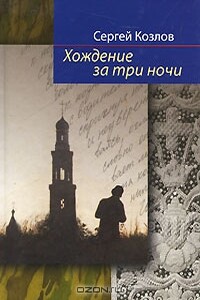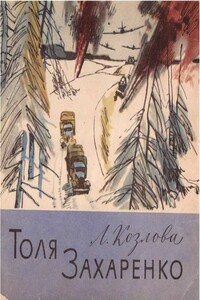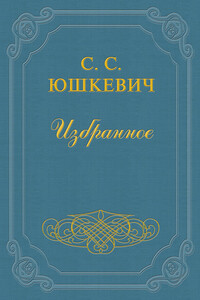Сергей Сергеевич Козлов
БЕКАР
повесть
Если ты не можешь
подняться и не хочешь смириться — ты обречён на гибель...
Талант (фанатичная
работа в какой-либо области) — искрящее замыкание
в цепи жизненной
энергии.
В. Гаврилин «О музыке и
не только...»
1
Неистовая была пурга.
Даже пушкинским бесам стало бы тошно.
«Невидимкою луна»?
Белёсым размытым пятном в едва угадываемом направлении.
Снежные заряды били в
лицо колкой слепящей массой, дороги и тропы сравнялись с волнующейся гладью
белокипенного моря, в котором, как корабли, терпящие бедствие, утопали
двухэтажные типовые дома и разнокалиберные коттеджи. Окружающая
действительность замыкалась вихрем в пространстве двух шагов видимости, и
только низкий, изредка срывающийся на фальцет, стон недалёкой тайги напоминал,
что мир огромен, а сегодня ещё и страшен. Редкие уличные фонари, будто кобры,
испуганно качающие головами, не могли толком раздвинуть бушующую мглу даже на
метр вокруг себя. Минус тридцать и шквальный ветер загоняли всё живое в любые
возможные укрытия. В ответ на обертон низкой протяжной ноты пурги срывались
пассажи с разрываемых струн-проводов, длинные фразы составлялись арфой
неровного штакетника вдоль домов и створок ворот, гуляющих в пределах снежных
завалов. След человека или автомобиля исчезал в молочном клубящемся вареве уже
через минуту. Так, вместе с ветром, наступала северная пустыня, обозначаемая
емким и точным русским словом «стужа». Выпав из звёздной стыни, снежные клубы
пикировали на метровые сугробы, эхом неслись над землёй и снова дыбились в
мутное безразличное небо.
И хоть была у Василия
распространённая русская фамилия Морозов, но привычки к таким холодам и метелям
она не создавала. Согнувшись тупым углом, с каждым шагом отталкиваясь от земли,
словно перед прыжком, он медленно преодолевал мятущееся пространство по
направлению к музыкальной школе. И в то время, когда его пятнадцатилетние
сверстники прилипли к экранам телевизоров, погружаясь в варево очередного
сериала о бандитах, или, в лучшем (худшем?) случае, подпирали стены подъездов,
ведя бессмысленные разговоры, он самоотверженно шёл на встречу со своей
учительницей по специальности Изольдой Матвеевной. Три месяца назад паренёк из
северного поселка победил на областном конкурсе юных пианистов, и теперь ему
предстояло выступать на конкурсе всероссийском. Ради этого, говорила Изольда
Матвеевна, надо работать день и ночь, в жару и в стужу, и не жалеть себя,
потому что грани настоящего таланта оттачиваются кропотливым, тяжёлым трудом.
Ох, уж эта Изольда
Матвеевна. Худощавая строгая женщина с тонкими, как пишут в книгах, точёными
чертами лица, тёмными, почти чёрными глазами, которые не мигая долго и
пристально смотрели на собеседника через линзы модных очков. В ней нельзя было
угадать учителя музыки, она больше походила на школьного завуча или даже судью.
Тонкие, но красивые губы Изольды Матвеевны способны были мимически передавать
тысячи оттенков её отношения к происходящему. За семь лет работы с учительницей
Василий научился читать эту мимику, особенно касающуюся его работы, проделываемой
за пианино или роялем. Малейший изгиб уголка рта — и Морозов уже знает,
«загнал» он пьесу или же нарушил пальцовку, отчего мог начать спотыкаться. А
вот когда всё шло как по маслу, Изольда Матвеевна уплывала взглядом в
задумчивую даль и принималась наматывать на длинный тонкий указательный палец
локон каштановых волос у виска. Но — малейшая ошибка, и палец дёргался так, что
из уст её вырывался ругательный шёпот от досады и боли одновременно, хотя
точного смысла его Василий никогда не понимал. Казалось, в такие моменты
учительница говорит на каком-то другом языке.
Все эти годы Изольда
Матвеевна вела «сибирского самородка» (так она его порой называла) к большой
сцене. Переживала только, что Василия поздно отдали в музыкальную школу — когда
ему исполнилось девять лет. В музыке, как и в спорте, раньше начнешь — больше
надежд на лавры. Но уже через год Морозов легко читал с листа пьесы,
рассчитанные на пятиклассников детской музыкальной школы, а технике его
нынешней игры могли позавидовать выпускники консерваторий. Кроме того, Василий
пытался сочинять сам, но именно в этом направлении творчества их взгляды чем
дальше, тем больше расходились. Изольда Матвеевна пичкала Василия музыкой в её
понимании прогрессивной: от «Прометея» Скрябина до Шнитке. Прослушав дома
«Прометея», он тут же сел за пианино и по памяти сыграл скрябинскую «Прелюдию
для левой руки», до диез минор. Эта пьеса была похожа на полотна
импрессионистов. От неё веяло дождём и туманом, под такую музыку хотелось
созерцать... «Прометей» же напоминал беспорядочную танковую атаку. Никакого
света и цвета в этом произведении Василий не слышал и не видел. И удивлялся:
как в одном композиторе уживались две такие разные стихии и почему одна из них
побеждала другую?
Василий покорно, по
много раз прослушивал принесенные учительницей диски, хотя от авангарда и
полистилистики его изрядно коробило. Да, соглашался он с Изольдой Матвеевной,
мысль есть, техника изумительная, подходы неожиданные, но почему-то душа не
поёт. Бьётся мысль, рвётся, но куда?! Из современных композиторов Василию
больше нравился Георгий Свиридов. При упоминании о нём у Изольды Матвеевны один
уголок губ приподымался, а второй, напротив, уходил вниз. «Но это же лубок,
Вася, — снисходительно говорила она, — конъюнктура. Ты же умный человек». Вася
пожимал плечами. Спорить с учителем всерьез он не решался, да и не хватало ему
владения всей этой терминологией, чтобы уверенно и аргументировано отстаивать
своё мнение. Ему больше нравилось воспринимать музыку сердцем, а не рассуждать
о том, из каких она сплетается форм, стилей и приёмов. Получалось, чем ближе
музыка к какофонии, тем она прогрессивнее. И очень удивился Василий Морозов,
когда на областном конкурсе услышал от продвинутых студентов музыкального
училища, что Моцарт — это попса. Именно из-за его мелодизма и доступности. До
сих пор он считал попсой то, что неслось со всех телевизионных каналов,
радиостанций и миллионными тиражами наполняло рынки компакт-дисков и кассет.
«Ну, тут они откровенно перебарщивают, хотят казаться умными, этакими знатоками-эстетами,
— пояснила Изольда Матвеевна озадаченному ученику. — Моцарт — это классика.
Возьмем, скажем, математику. Разве можно сейчас её представить без таблицы
умножения? Моцарт — это таблица умножения в музыке». «Значит, — ещё больше
удивился Василий, — Пушкин — это таблица умножения в поэзии?» — «Ты, как
всегда, быстро схватываешь, — вскинулись утолки туб, — но заметь, я не сказала,
что это просто, как дважды два, таблица умножения как раз позволяет нам
множить, преумножать, понимаешь?..» «Понимаю», — кивнул Василий. Но сравнение
всё равно показалось ему обидным. Изольда Матвеевна словно прочитала его мысли:
«Ну разве можно недооценивать изобретателя колеса, если теперь все им
пользуются?! Но изобретать колесо во второй раз не стоит. Лучше попробовать
найти что-нибудь своё...» — «Самолётный двигатель?» — предположил Василий, чем
вызвал восторг учительницы, а про себя добавил, что и взлёт и посадка самолёта
без колёс не обходятся. «Всякая настоящая поэзия должна быть глуповата», —
вспомнил он прочитанное в дневнике композитора Гав- рилина, но приписываемое
Пушкину.