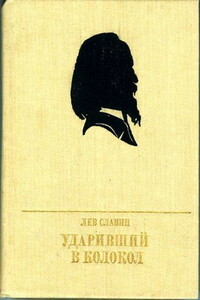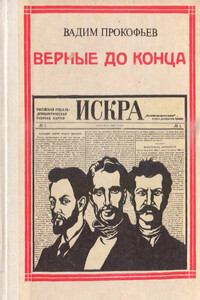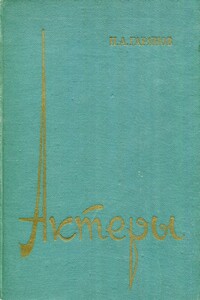С трудом воспроизвожу я свои чувства тех лет. Вообразите мальчика, который рос в разгаре первой мировой войны. Едва мы сформировались в юношей, нас бросили в котел войны. Тогда же мобилизовали ополченцев, сорокапятилетних бородачей. В казарме встретились старики и дети. Завязывались необыкновенные дружбы. Среди боев и муштры нас подобралось несколько человек, для которых литература была самой сильной страстью… Пришла революция. Смутное ощущение правды потянуло нас в Красную Армию. Снова бои. Мы были очень молоды. Жизненный опыт наш был иногда глубок, но всегда узок. Полузабытые школьные науки, революционный энтузиазм да умение владеть оружием – вот все, что я знал и умел и чувствовал в 1919 году. Прибавьте сюда неистребимое желание писать. Как? Никто из нас не знал.
Нас отвели в тыл для пополнения изрядно поредевших рядов. Это было в Одессе. Все время, свободное от караулов, учебных стрельб и комендантских вызовов, мы читали, пользуясь реквизированными у буржуев библиотеками. Особенно привлекали нас биографии писателей. Их жизни и личности казались легендарными.
Несмотря на свою молодость, я был помощником командира роты по строевой части. В число моих обязанностей входило распределение бойцов в наряды и караулы по городу.
И вот однажды передо мной предстал красноармеец не совсем обычного вида, этакое худосочное и даже лысоватое существо в очках, явно выделявшееся на фоне крестьянских парней, составлявших большинство нового набора. Я сразу понял, что он пришел ко мне, чтобы как-нибудь отпроситься от назначения в наряд, и я заранее решил сурово ему отказать. Никаких поблажек интеллигентам! Полное равенство!
Но у него был наготове хитроумный ход. Он сообщил мне (очевидно, прослышав о моем интересе к литературе), что он поэт. И действительно, в руках у него была толстая тетрадь, переплетенная в обойную бумагу. На ней было написано:
ВЕНОК СОНЕТОВ
Но я был тверд и непоколебим. Молодая Революция была принципиальна и бескомпромиссна. Я не поддал-ся даже и тогда, когда он прочел мне тонким завывающим голосом два-три сонета. И я уже готов был отправить его в караул на склад кожтоваров, когда он выложил мне свою последнюю карту, козырную: он предложил познакомить меня с Эдуардом Багрицким.
И тут я дрогнул. И мы с ним пошли на Ремесленную улицу в тесную, бедную квартирку, где жил Багрицкий вдвоем со своей матерью.
Я увидел человека худого и лохматого, с длинными конечностями, с головой, склоненной набок, похожего на большую сильную птицу. Круглые серые, зоркие, почти всегда веселые глаза, орлиный нос и общая голенастость фигуры усиливали это сходство.
Сюда надо прибавить излюбленный жест Багрицком го, которым он обычно сопровождал чтение стихов: он вытягивал руку вперед, широко расставив пальцы и упираясь ими в стол. Его кисть, крупная, с длинными и сильными пальцами, напоминала орлиную лапу.
Он косо глянул на меня из-под толстой русой пряди, свисавшей на невысокий лоб, и сказал хрипло и в нос:
– Стихи любите?
Он был полуодет, сидел, скрестив ноги по-турецки, и держал перед собой блюдце с дымящейся травкой. Он вдыхал дым.
Мы застали Багрицкого в припадке астмы. Болезнь, впоследствии убившая его, была тогда несильной. Она не мешала ему разговаривать и даже читать стихи.
Читал он хрипловатым и все же прекрасным низким голосом, чуть в нос. Длинное горло его надувалось, как у поющей птицы. При этом все тело Багрицкого ходило в такт стихам, как если бы ритм их был материальной силой, сидевшей внутри Багрицкого и сотрясавшей его, как пущенный мотор сотрясает тело машины.
Он прочел своего «Тиля Уленшпигеля», потом «Харчевню» и еще много стихов. В них действовали люди и звери, жадные, сильные, полные веселья и удали.
Есть натуры закрытые, которые узнаешь исподволь, Багрицкий был, наоборот, человеком, распахнутым настежь, и немного мне понадобилось времени, чтобы увидеть, что эта зоркость и сила Багрицкого и словно постоянная готовность к большому полету были точным физическим отражением его душевных качеств. Это ощущение осталось у меня на всю жизнь.
Впоследствии болезнь исказила пропорции его лица и тела. Но хоть он с годами оплыл и потучнел, по-прежнему до самого конца исходило от него обаяние доброй и зоркой силы большого человека.
Он был воздержан в пище. Почти не курил. Не пил. И вообще не обладал ни одной из тех фламандских страстей, которыми он так охотно наделял своих героев.
Он был путешественником в мечтаниях. Он был обжорой, атлетом, пьяницей, гулякой, ловеласом и удальцом в мечтаниях.
Я знал, что раньше он совершил путешествие в Персию. Еще совсем недавно он работал в политотделе фронта. Теперь все страсти его ушли в стихи.
Я долго сидел в тот вечер у Багрицкого. Я влюбился в него. Это случалось почти со всеми. Багрицкий обладал поразительным даром привлекать сердца. Он и сам мгновенно прилеплялся к людям. Было что-то женственное в его привязчивости к людям, в его стремлении очаровать их и в легкости, с какой он забывал иных.
Писатель не существует в отрыве от той земли, на которой он вырос, и от тех людей, которые его окружали. Потому-то Багрицкий и назвал свою первую книгу, которая сразу принесла ему славу: «Юго-Запад». Я помню молодого Багрицкого в «Коллективе поэтов» в окружении таких же молодых, как он.