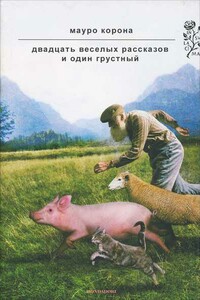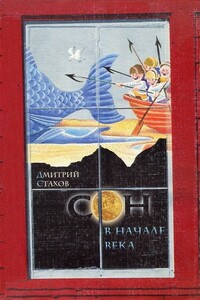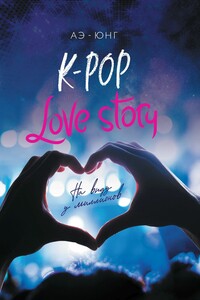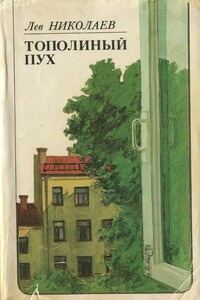Аптека для души
При раскопках дворца Рамзеса Второго над входом в библиотеку археологи обнаружили надпись: "Аптека для души".
Слово "библиотека" означает собрание книг. Насколько же точнее, приближеннее к существу, было египетское понимание и книги, и библиотеки, существовавшее более трех тысяч лет назад.
Попросите вашего приятеля вообразить предмет, который вы ему назовете. Назовите книгу
И поинтересуйтесь, какую книгу он вообразил.
— Толстую, — ответит он. Знаешь, такую... крепкую... Добротную. Приятно взять в руки...
Тонкую представляют редко. В основном снобы. Добротную — все как один.
Книга обязана быть добротной во всех отношениях, как по внешнему виду, так и по содержанию и по функциональному совершенству. Книга не имеет права трещать, скрипеть и лопаться, когда ее перелистываешь. Желательно, чтобы страницы переворачивались как бы сами собой.
Книга входит в понятие добра как предмет добра.
Книга входит в понятие науки как ее инструмент.
Книга входит в понятие архитектуры как ее субъект.
Книга — лекарство.
Книга — лучший подарок.
Однажды мой приятель пригласил меня на день рождения своего внука. А я не люблю на дни рождения ходить — сиди, парься, даже телевизор толком посмотреть нельзя, кто-нибудь из гостей обязательно заорет, споткнувшись о едва уже заметный пень справедливости: "Выпьем за деньрожденника!"
А деньрожденник весь в новом. Лезет на стул стихи читать. Отвертеться от дня рождения я не сумел, захватил книгу и пошел. Мальчик-деньрожденник — крохотный, беленький, бледненький, под глазами и у носа голубизна, но уже взрослый, галстук ему надели, на американский манер. Рядом с ним его мама, бестелесная от капустно-морковной диеты.
Даю мальчику книгу.
— Читай. Книга — источник знаний.
Он помигал немножко, сделал свой носик красненьким и спрятал руки за спину.
— Ты что, читать не умеешь?
— Читать он умеет немного, — отвечает за мальчика его мама. — А вашей книги он боится. Он вчера конфетницу уронил хрустальную. Пальчики порезал.
До свадьбы заживет, — говорю. — Всем лучшим во мне я обязан книге.
Она отвечает:
— Так это вы. А Петенька мой всем лучшим в себе обязан мамочке. Он думает, ваша книга стеклянная. У нее вид треснутый.
Смотрю — книга действительно похожа на стеклянную, у корешка целлофан сморщился, действительно похоже на трещину.
— Не бойся, Петя, — говорю. — Мы ее сейчас откроем. Там картинки. Ты любишь картинки? Художник Флоренский Саша.
Мальчик Петя картинки любил. Мы начали открывать книгу. Книга скрипит, трещит, стонет. Что-то в ней лопается. Петя отодвигается от меня, прячется за мамину ногу. Мальчикова мама советует книгу не ломать. Объясняет:
— Мы ее на стену повесим в кухне, как народное творчество.
Но я неумолим.
Наконец книга с треском разламывается — получается две полукниги. Мальчик Петя улыбается мне с пониманием, как будто мы с ним в моем далеком детстве вместе в детсадик ходили: понимает мальчик Петя, что меня, конечно, будут наказывать, сладкого не дадут, апельсинов лишат, может даже в угол поставят. Он теряет ко мне интерес и уходит в комнату, где телевизор — там пахнет озоном, ванилью и шоколадом. Если бы Пете очки на нос и белый воротничок с бантом вместо взрослого галстука, был бы он похож на моего погибшего на войне друга Степу. Степа очень любил читать. Ему казалось, что слова есть везде: на крыльях бабочек в текущей воде, в небе, на коре деревьев. Когда он читал, он высовывал язык, как бы пробовал слово на вкус. Иногда он язык быстренько втягивал, и рот захлопывал, наверное, обжигался.
— Дети книжек теперь не читают, — шепчет мне Петина мама. — Книги и ордена теперь о другом говорят.
А мой друг Степа мечтал выучиться на архитектора. Хотел строить дворцы труда и науки. Но более всего мечтал Степа построить храм. Без икон и попов. Храм разума — Библиотеку. Он говорил мне:
— Библиотека есть храм, равный Божьему. Бог и Разум — такой дуализм...
Однажды в новгородской детской библиотеке заведующая пригласила меня в свой маленький кабинетик, извлекла из закрытого на ключ шкафика книжки с рисунками Мавриной и одну книжку с рисунками хорошего ленинградского художника Завена Аршакуни — мою — "Петухи".
— Эти книжки мы детям не выдаем. Дети их боятся. Даже плачут. — Лоб заведующей был светел. Губы заведующей были бледны. Глаза — как два изумруда, вставленные в рукоятку меча.
Я ей про Маврину не поверил. Хотя, если честно сказать, книжку, иллюстрированную Татьяной Алексеевной, трудно представить под щекой спящего малыша, ее работы должны висеть на стенах у взрослых медлительных людей, склонных к мифу и пантеизму.
Из ряда лубочно-праздничных деформаций, таинственных и неприступно высоких, может быть, только Юрий Алексеевич Васнецов прорвался к детям, остальных, и более всего Маврину, дети воспринимают как трагическое, как боль — дети отлично видят каркасы праздников, гвозди и скобы, которыми прибито к фанерным небесам карнавальное солнце. Любой театр дети воспринимают лишь через страх — скопом; оставшись с ним один на один, они горько плачут.
Про мою книжку "Петухи", оформленную Завеном Аршакуни, заведующая и рассуждать не стала, только сказала: "Закусывать надо". Потом подсунула мне другую книжку из того же шкафа, тоже мою — повесть "Ожидание".