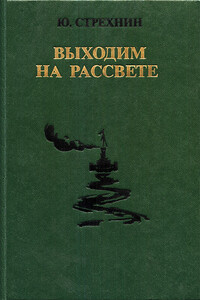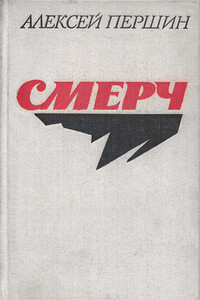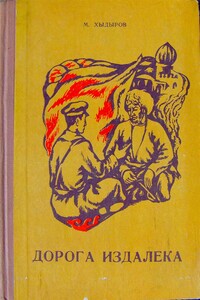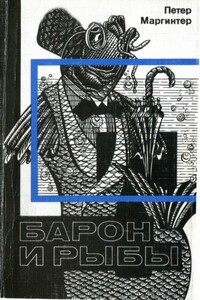Тамаре Миненко, Тане Бовиной, Шурику Калугину — друзьям геологической юности автора — посвящается эта книга.
ОТ АВТОРА
30-е годы в горах Кузнецкого Алатау. Где бы не собрались в ту пору приискатели-золотничники: у магазина, вечером в тайге у костра или в обеденный перерыв у шурфа за цебаркой смородишного взвара — разговор почти непременно заходил о ней, Росомахе. Где-то в глухой тайге живет женщина. Совершенно одна. Бьет зверя, добывает «богатимое» золото, не имеет даже землянки и каждую ночь ночует на новом месте.
— Что твоя баба-Яга, — говорили одни. — Намедни встретил ее в тайге, не плюнул через плечо и, скажи ты, вернулся на прииск, а дома корова перестала доиться.
И рассказывается с такими подробностями, что многих мороз по коже дерет.
— Не Росомаха, не ходить бы мне теперь по земле, — рассказывали другие, — Ногу в тайге сломал. Сгинул бы, да Росомаха на меня наткнулась. Скажи ты, верст, поди, двадцать на себе протащила, а после — на плоте до села довезла.
— А сама-то стара. Волосы — пасмы. Изо рта один зуб торчит, — таков был традиционный портрет Росомахи.
— Брось ты. Красавица, видать, была баба. Рослая, стройная до сих пор. И волосы — девкам на зависть, — описывали ее другие.
Легенд, былей и небылиц вокруг Росомахи — выбирай на свой вкус, и хочешь — рисуй либо бабу-Ягу, либо таежную Кармен, или Оленушку — Ясное солнышко.
В годы Великой Отечественной войны я встретился с Росомахой, и некоторое время мы вместе работали. А через тридцать лет, распростившись с работой геолога, пишу о ней, выбирая из многих слышанных мною легенд те, которые не противоречат личным моим наблюдениям.
Первая книга о Росомахе «Золотая пучина» описывает юность героини. Вторая книга «Алые росы» сейчас представляется вниманию читателей. А третья книга еще впереди.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1.
Тайга на тысячи верст. Тысячи тысяч ключей, горушек, полян. Кажется, все под одно, но приглядись хорошенько — двух одинаковых нет. На этой поляне стоит раскидистая черемуха, похожая на корзину, полную спелых ягод, а на другой — обломок скалы накрылся плащом из зеленых мхов по самые брови и на маковке тюбетейкой рдеет брусника.
И деревья все разные. Вон пихта попушистей и хвоя потемней. Понизу не ветви — шатер. В зимнюю стужу туда забираются зайцы и дремлют сторожко. А стройную пихту над ручьем выбрала белка и построила на самой макушке гайно. Рядом торчит сухая ветка с острым концом — на ней белки сушат грибы. Чаще всего подосиновики. Они растут под кудрявой рябиной, что стоит чуть поодаль.
Какие «частушки», с переливами, с переборами, с пересвистами, с пересмешками распевают на ветках рябины молодые дрозды!
И ручьев одинаковых нет. Один молчаливый, ленивый, только в дождь заворчит недовольно; второй как родился, запел, так и поет, прыгая с камня на камень, щедро осыпая всех прохладными брызгами. И не скудеет, а чем дальше бежит, тем полноводней становится, говорливей и радостней…
Плечами сомкнулись высокие кедры. Под ними всегда полумрак, клубится парок, пахнет прелью, грибами. В безоблачный день сквозь плотные кроны сочатся дрожащие нити солнечных лучиков. Тишина здесь… Крик кедровки, потревоженной далеко в горах, кажется таким громким, что вздрогнешь невольно. Хруст ветки, стук упавшей с кедра шишки, хлопанье крыльев несмышленого копаленка — все неожиданно. И невольно оглядываешься по сторонам, не зная, что увидишь — то ли рысь, притаившуюся в темных ветвях, то ли избушку на курьих ножках, то ли красавца-оленя.
И вдруг тайга распахнулась на широких, привольных лугах. В глазах пестрят желтые лютики у ручья, синие колокольчики, ярко-красные лилии, оранжевые жарки осколками разбитой радуги усеяли долину. И все это тонет в медовом запахе трав и теплом сиянии летнего дня.
В такой цветущей долине, на опушке густых кедрачей, построил пасеку седенький, сухонький, сгорбленный дедушка Савва.
Места здесь привольные. Рыба. Орехи. Грибы. Ягоды сколько хочешь. Кончилась земляника, черника поспела, за ней смородина, малина, брусника, черемуха. Малина сушеная хороша с — чайком после баньки, особенно, если вдруг занеможется.
На пасеку дедушки Саввы Сысой наткнулся случайно, когда ездил по таежным поселкам, скупая смолу и деготь. Понравилось веселое место, дедушка Савва приветлив, а медовуха у него, как в песнях поют: пена шапкой, ковш к губам поднесешь — сама льется в горло.
Закончив с хорошим присолом какое-нибудь купецкое дело, сюда приезжал Сысой. Соберет дружков из соседних сел, те девок пригласят и — на пасеку. Дедушка Савва переходил в избушку, а в его пятистенке, просторной и светлой, пели, плясали, мешали день с ночью.
На Саввину пасеку и привез Сысой Ксюшу.
Пока играли в карты с Устином, хмель, азарт и необычная ставка Устина туманили голову. «Ксюху ставлю! Ксюха везуча!» — кричал Устин. Когда же Матрена оборвала игру, на руках у Сысоя оказалась Ксюша, а к Устину перешла добрая часть денег Сысоя. Да ежли б Сысоя, а то ведь деньги-то отца, а Пантелеймон Назарович крут.
Голова пошла кругом.
— Давай разменяемся, — приступил к Матрене Сысой.
Та только губы поджала, а утром чуть свет разбудила Сысоя и сама помогла усадить в коробок связанную Ксюшу.