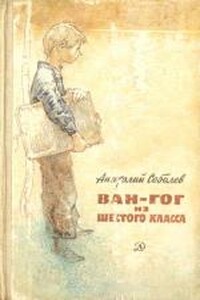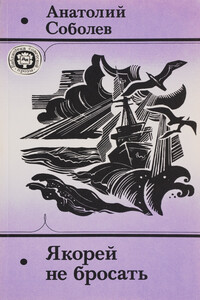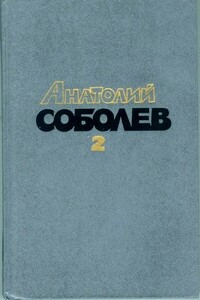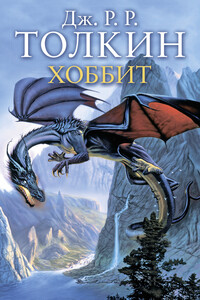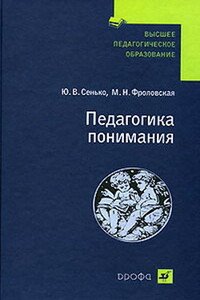Странная и по-своему счастливая для меня встреча произошла несколько лет назад в международном поезде «Москва — Берлин». Я ехал тогда в Варшаву. После Бреста, когда пересекли границу, мимо окон поплыли скудные земли под низким дождливым небом. По раскисшим осенним проселкам изредка тянулись конные повозки. Диковинно было видеть эти мокрые крестьянские фургоны, от которых, как и всякий горожанин, я отвык.
Напротив меня в купе сидел красивый старик, еще крепкий, жилистый, с негнущейся спиной. Сибиряк с Алтая. Но было в нем что-то неуловимо чужое, иноземное, и от этого я испытывал какое-то странное чувство.
— …И вы остались? — переспросил я.
Он кивнул на старушку, маленькую, беленькую, пухленькую, сидевшую рядом с ним, и, как я уже знал, ни слова не понимавшую по-русски. У нее старчески тряслась голова, и она все время старалась прислонить ее к перегородке купе или держала руками, делая вид, что поправляет волосы, и с лица ее не исчезала извиняющаяся милая улыбка.
— Вот ее встренул.
Передо мною сидел земляк с Алтая, большую часть своей жизни проживший во Франции. Алтайский француз, сибирский парижанин или, наоборот, парижский сибиряк, французский алтаец — так мысленно я подбирал ему определение. Полвека он не бывал на родине.
— Ничо не узнал, никого не встренул, — раздумчиво произнес он, тщательно выговаривая слова, как это делают иностранцы. — Все переменилось, все поумирали. Бию, и ту не признал в лицо. Обмелела, грязная стала, а река была державная. Как разольется, бывалоча, да как встренутся с Катунью-то — дак цельне море! Глазом не окинуть!
Это я помню. Бия даже в моем детстве и то была рекой «державной». Вытекая из Телецкого озера, она была еще и кристально чистой.
— До рекрутов я в ней стерлядь лавливал. Теперя спросил — засмеялись, говорят: чего захотел!
Он говорил, а я все никак не мог понять, что же мне мешает его слушать. И все мучился, пока не прозрел: по-русски он говорил с французским прононсом. Он, родившийся на Алтае и проживший там свое детство и юность, говорил теперь с иностранным акцентом!
Деревенский парень из глухого угла, читать-писать не то что по-иностранному, а и по-русски-то не умевший, когда его забрили в царские солдаты, сидел теперь в купе, международного поезда, разговаривал с французским акцентом и часто подыскивал русское слово, чтобы выразить свою мысль. Забыл родной язык! Это меня потрясло.
Он ехал в Париж, к себе домой, я — в Варшаву, в гости.
Когда мой товарищ, известный писатель, вологжанин, с которым мы ехали в Польшу, позвал меня в купе, сказав: «Там твой земляк. Старый русский солдат. Воевал еще в первую мировую», у меня в каком-то предчувствии дрогнуло сердце, и я поспешил в соседнее купе.
Да, он был вместе с моим отцом, как я и надеялся втайне. Когда я назвал фамилию отца, бомбардира-наводчика Томской батареи, и спросил, не помнит ли он такого, старик сразу же ответил: «Помню, как же!» Я не поверил своим ушам — уж слишком было неправдоподобно: вот так вот, в поезде, идущем по другой стране, встретить человека, который помнит моего отца, воевавшего во Франции еще в первую мировую! И я для проверки задал старику вопрос: какой он из себя, мой отец?
— Пантелей-то? — переспросил старик. — Дак корявый он. Ростом с каланчу. И здоров! За колесо возьмется — орудие подымет.
Да, это мой отец. Корявый, высокий, сильный. И имя его старик вспомнил сразу же, как только я назвал фамилию.
— Он на каторгу попал опосля бунта. Мы бунт подняли, когда прослышали, что в Расее революция. Зачинщиков-то полевой суд судил, и в Африку их сослали, а я так и воевал до замирения с немцами. Потом остался. Вот ее встренул.
Он говорил тем давним, уже ушедшим из нашего обихода языком, и я слушал чалдонскую речь с полузабытыми словами и оборотами. Как все же странно! Для него язык остался тем, давним, кондовым, который я слышал только в далеком детстве.
Из нашей беседы я узнал, что после ранения был он денщиком у офицера и тот запугал безграмотного парня, рисуя мрачную картину возвращения на родину, где все порушено, все в разоре, где большевики перекраивают жизнь черт знает на какой лад.
Офицер обещал держать его при себе до смерти. И солдат поверил, остался. Женился на молоденькой француженке, что приходила стирать белье господину штабс-капитану.
Я узнал, что у стариков есть свой магазинчик по продаже овощей и зелени, что они преуспели в жизни, что вырастили двух сыновей и дочь. Дети обеспечены. У старшего сына, Гастона, даже ферма есть, приносящая неплохой доход. Дочь выгодно выдали замуж, а младший сын работает в мастерской по ремонту автомашин и зарабатывает прилично. Жаловаться на судьбу грех.
Старый русский солдат гордился тем, что прожил годы не в нищете, что дети обеспечены и на черный день припасено, а я смотрел на него и думал о своем отце, который бежал с алжирской каторги, прошел пол-Европы, лишь бы добраться до родины. Один все преодолел, все перемог, голодный, холодный, больной, но вернулся, а другой — тихо-мирно жил во Франции и на родину его не тянуло. Не может быть, чтобы не испытал он зова родной земли!
Я не удержался и спросил об этом.