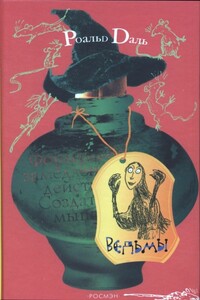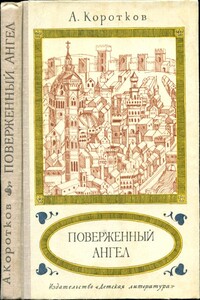На следующее утро мистер Клаузнер встал с рассветом. Одевшись, он направился прямо к сараю. Подхватив машину, вынес наружу, плотно прижимая к груди и чуть пошатываясь от тяжести. Миновав дом и калитку, Клаузнер пересек дорогу и двинулся в сторону парка. Один раз на пути он замер, оглянулся, постоял мгновенье и затем пошел дальше; оказавшись возле большого бука, опустил прибор на землю у самого ствола. После этого Клаузнер поспешил к дому, вынес из угольного погреба топор и, вернувшись в парк, положил его рядом с деревом.
Затем он снова огляделся, нервозно посматривая через свои толстые очки. Вокруг не было ни души. Шесть часов утра.
Клаузнер надел наушники и включил машину. Некоторое время вслушивался в знакомый гудящий звук, затем поднял с земли топор, встал, широко расставив ноги, и изо всех сил всадил лезвие в основание ствола. Металл вошел в толщу древесины и застрял там, и в тот же самый момент в наушниках разразился поистине невероятный шум. Совершенно новый, доселе незнакомый звук — хриплый, глухой, оглушающий, рокочущий, низкий и все же похожий на вопль — не столь изумленно-краткий, как у срываемой розы, но походящий на глубокий — длиною в целую минуту — вздох ужаса, который достиг своего апогея, когда лезвие застряло в древесной плоти, и после этого, постепенно затихая, слабел, пока вовсе не сошел на нет.
Клаузнер с ужасом смотрел на место разруба, затем осторожно взялся за рукоятку, высвободил лезвие и тихонько опустил топор на землю; он прикоснулся к краям раны, попытался даже сжать их; он все время приговаривал: «Дерево… о, дерево… извини меня… мне так жалко… все ведь зарастет… прекрасно зарастет…»
Какое-то время Клаузнер стоял, ухватившись руками за мощный ствол бука, затем резко повернулся и бросился вон из парка — через дорогу, сквозь калитку, пока не оказался снова в доме. Он подошел к телефону и, покопавшись в справочной книге, набрал номер и стал ждать. Крепко сжимая трубку правой рукой, он нетерпеливо постукивал по столу пальцами левой. Ему было слышно, как на другом конце провода раздается звонок, наконец щелкнуло и сонный мужской голос проговорил:
— Алло. Да.
— Доктор Скотт?
— Да, он самый.
— Доктор Скотт, вы должны приехать. Немедленно.
— Кто это говорит?
— Клаузнер. Вы помните, я рассказывал вам вчера вечером про свои эксперименты со звуком и о том, как бы мне хотелось…
— Да, да, конечно, но я не вполне понимаю, что случилось? Вы нездоровы?
— Нет, я не болен, но…
— Но сейчас ведь половина седьмого утра, — сказал доктор, — и вы звоните мне, хотя совершенно не больны.
— Пожалуйста, приходите. Только побыстрее. Я хочу, чтобы кто-нибудь это услышал. Я схожу от этого с ума! Я не могу в это поверить…
Доктор узнал отчаянные, почти истеричные нотки в голосе звонившего — точно такие же, как у тех, кто кричал в трубку: «Несчастье! Произошел несчастный случай! Пожалуйста, приезжайте побыстрее». Он медленно проговорил:
— Вы действительно хотите, чтобы я вот так встал из постели и приехал к вам?
— Да, сейчас. Пожалуйста, немедленно.
— Ну что ж, хорошо. Еду.
Клаузнер сел рядом с телефоном и стал ждать. Он пытался вспомнить, как звучал тот вопль, который издавало дерево, но никак не мог. Единственное, что всплывало в памяти, так это само неистовое страдание, заполнившее звук и заставившее его самого пережить паралич ужаса. Он попытался представить себе, какой звук издаст человек, если его прикуют к земле и станут умышленно каким-нибудь маленьким острым предметом протыкать ему ногу, вонзая лезвие глубоко в плоть, раздирая ее. Верно, получится нечто похожее? Впрочем, нет. Будет совсем другой звук. Крик дерева был страшнее любого человеческого именно из-за своей пугающей, неодушевленно-ровной структуры. Клаузнер стал думать о других живых существах, и в памяти сразу же всплыло пшеничное поле с тесными рядами желтых и живых колосьев, по которым движется косилка…
Пятьсот стеблей в секунду, каждую секунду! О, Боже, какой же должен стоять крик! Пятьсот пшеничных колосьев, кричащих одновременно… И каждую секунду срезаются новые пятьсот колосьев, которые тоже кричат… Нет, подумал он, я не хочу идти со своей машиной на пшеничное поле. После этого я никогда не стану есть хлеб. Но как быть с помидорами, капустой, морковью и луком? А с яблоками? Нет, с яблоками как раз все в порядке. Вызрев, они сами падают на землю. С ними все в порядке, если дать им вызреть и дождаться, когда они упадут на землю, а не срывать с ветвей. Но только не овощи. Только не картошка, например. И помидор тоже обязательно будет кричать, и морковь, и лук, и капуста…
Звякнула щеколда калитки. Клаузнер вскочил и, выбежав наружу, увидел высокую фигуру доктора, идущего по тропинке с маленьким черным чемоданчиком в руке.
— Итак, — спросил доктор, — что же нас беспокоит?
— Пойдемте со мной, доктор. Я хочу, чтобы вы услышали это. Я позвал вас потому, что вы единственный, кому я обо всем рассказал. Это там, в парке, у дороги. Ведь вы пойдете со мной?
Доктор внимательно посмотрел на Клаузнера. Тот показался ему уже более спокойным, никаких признаков помешательства или истерики, просто возбужден и встревожен.