Звучащий след - [16]
Из стеблей камыша мы, как умели, сплели корзину. Было уже темно, когда мы вернулись в барак. Мюллер зажег сальную свечу, и в неподвижном воздухе пламя ее тянулось вверх. Конура Бобби переходила из рук в руки, подвергаясь самому тщательному осмотру. Мюллер обнаружил в плетенке широкие щели.
— Бобби задохнется в песке, — сердито проворчал он. — Вы, кажется, почище «профессора».
Он направился к своему месту. Когда Мюллер был чем-то взволнован, он еще сильнее, чем всегда, тянул ногу. Он вернулся, держа в руках рубашку, которой обтянул корзину. Теперь уж песок не просочится в нее.
— И прежде всего, будь тише воды, ниже травы, — наставлял он Бобби. — У трусов зачастую преострый слух.
Бобби ткнулся носом в вытянутую руку Мюллера, старательно обнюхал ее и облизал своим красным языком. Я стоял тут же и немного завидовал Мюллеру, — Бобби не обращал на меня никакого внимания, а ведь в тине копошился я, а не Мюллер. Я решительно ничего не имел против Бобби. Мне даже не приходило в голову злиться на него за то, что он бросался на меня по наущению своего хозяина. Ябовский, как всегда, лежал на спине и глядел в потолок. Я с обеда ничего не ел и с нетерпением ждал, что он протянет мне банку, но он не трогался с места… Этот субъект думал только о себе. Что мне оставалось делать, как не заговорить с ним?
— Эй, ты, — пробурчал я, — давай банку.
Ябовский вздрогнул. Хоть я и был чертовски голоден, мне все же хотелось, чтобы моя порция оказалась неполной. Я бы высказал тогда все, что лежало у меня на сердце.
— Я хотел поблагодарить тебя за корзинку, которую ты сделал вместе с Ахимом, — сказал Ябовский, протягивая мне банку. — Я бы охотно пошел с вами… — он не договорил и скосил взгляд на свою изувеченную руку.
Не ответив ему ни слова, я взял банку — в ней было больше половины. Кое-где раздавался храп, напоминавший мне, что уже довольно поздно. Мюллер задул свечу. Похлебку я мог проглотить и в темноте.
— Ну вот, — сказал Мюллер, уходя, — теперь с Бобби ничего не случится.
Вскоре выяснилось, что он глубоко заблуждается. Ночью, как было условлено, Бобби оставался в бараке. На рассвете его перенесли в заранее вырытую в песке яму. В полдень с соблюдением всех необходимых предосторожностей ему принесли еду. Когда солнце село, мы снова взяли его к себе. С нетерпением ждали мы прибытия котла с едой, за которым пошли двое из нашего барака. Наконец они возвратились. Мы столпились вокруг котла. Ахим стал раздавать еду. Ябовскому и мне налили в одну банку. Мы сидели друг против друга, рядом с нами — Бобби. Ложку Ябовский, ложку я, ложку Бобби. Вторую и третью ложку Ябовский, потом я — вторую и третью. Потом снова одну ложку Бобби. Эту систему приходилось запоминать. Делать черточки на песке было бесполезно: мимо нас все время кто-нибудь ходил. Я никак не мог сосредоточиться. С этой пыткой надо было покончить, и снова, как во время драки с Томом из-за бидона, меня захлестнула какая-то мутная волна.
Я взглянул на Бобби; пес дрожал от жадности. Каждую ложку, которую я подносил ко рту, он провожал внимательным взглядом. Если вышвырнуть собаку, Ябовский уже не сможет мошенничать. Тогда все станет гораздо проще. Ложку Ябовский, ложку я, и так до дна. Просто смешно, как он нянчится со своим Бобби, возится с ним с утра до вечера, словно в бараке нет никого, кроме этой дворняжки. Здорово он околпачил всю компанию, особенно Мюллера! Как они носились с Ябовским, и все из-за того, что на пути сюда весь его багаж — все, что он способен был унести своей здоровой рукой, — составлял Бобби. Точно так же в свое время вся наша улица славила Бибермана, взявшего меня на воспитание. Позднее, когда разразился скандал, они об этом и не вспомнили.
С минуту я прислушивался к чавканью и чмоканью в бараке. Мюллер поглощал еду маленькими глотками, им-то хорошо, у каждого своя банка. Пока я озирался по сторонам, Ябовский спокойно продолжал есть. Это уж было явное жульничество. Меня подмывало съездить его по морде, да так, чтобы он подавился своим супом.
На беду Бобби вдруг стал ко мне ластиться. От его прикосновения вспыхнула тлевшая во мне злоба. Я грубо отшвырнул собаку, и она с визгом покатилась по песку., Я решительно ничего не имел против Бобби, пинок предназначался Ябовскому. Но эффект был поразительный. Ябовский вскочил на ноги с быстротой, какой трудно было ожидать от такого калеки. Взгляд его больших темных глаз обдал меня холодным презрением.
— На, жри! — сказал он, тыча пальцем в остатки супа.
Он прижал Бобби к груди и уселся на свое место. Как побитый, стоял я перед банкой, чувствуя испытующие взгляды окружающих. В открытую дверь, ухмыляясь, заглядывал круглый, как тыква, месяц. Все вокруг ухмылялись — по крайней мере мне так казалось. Один только Ябовский разглядывал носки своих ботинок. Его надменное спокойствие переполнило чашу моего терпения. Он был хозяином положения, а меня душила ненависть. Лучше бы я поссорился с Мюллером или еще с кем-нибудь. Склоки — так мы называли наши размолвки — происходили нередко и почти всегда сразу же забывались. Но тут было другое дело. Ябовский, жалкий польский еврей, позволял себе смотреть на меня сверху вниз. Внешне спокойный, я вышел из барака. Прохладный воздух опьянил меня; я брел по лагерю, спотыкаясь, как во хмелю. Обычные вечерние звуки — голоса раздатчиков, которые по двое выходили из кухни, плеск воды у колонки, где мыли посуду, почти не доходили до моего слуха.
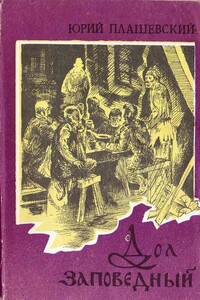
«…Лейтенант смотрел на него и ничего не понимал. Он только смутно чувствовал, что этот простенький сентиментальный мотив, который он неведомо где слышал и который совсем случайно вспомнился ему в это утро, тронул в душе рыжего красавца капитана какую-то сокровенную струну».

Рассказы о нелегкой жизни детей в годы Великой Отечественной войны, об их помощи нашим воинам.Содержание:«Однофамильцы»«Вовка с ничейной полосы»«Федька хочет быть летчиком»«Фабричная труба».

В увлекательной книге польского писателя Анджея Збыха рассказывается о бесстрашном и изобретательном разведчике Гансе Клосе, известном не одному поколению любителей остросюжетной литературы по знаменитому телевизионному сериалу "Ставка больше, чем жизнь".Содержание:Железный крестКафе РосеДвойной нельсонОперация «Дубовый лист»ОсадаРазыскивается группенфюрер Вольф.

Роман известного английского писателя Питера Устинова «Побежденный», действие которого разворачивается в терзаемой войной Европе, прослеживает карьеру молодого офицера гитлеровской армии. С присущими ему юмором, проницательностью и сочувствием Питер Устинов описывает все трагедии и ошибки самой страшной войны в истории человечества, погубившей целое поколение и сломавшей судьбы последующих.Содержание:Побежденный (роман),Место в тени (рассказ),Чуточку сочувствия (рассказ).

Суровая осень 1941 года... В ту пору распрощались с детством четырнадцатилетние мальчишки и надели черные шинели ремесленников. За станками в цехах оборонных заводов точили мальчишки мины и снаряды, собирали гранаты. Они мечтали о воинских подвигах, не подозревая, что их работа — тоже подвиг. В самые трудные для Родины дни не согнулись хрупкие плечи мальчишек и девчонок.

Книга генерал-лейтенанта в отставке Бориса Тарасова поражает своей глубокой достоверностью. В 1941–1942 годах девятилетним ребенком он пережил блокаду Ленинграда. Во многом благодаря ему выжили его маленькие братья и беременная мать. Блокада глазами ребенка – наиболее проникновенные, трогающие за сердце страницы книги. Любовь к Родине, упорный труд, стойкость, мужество, взаимовыручка – вот что помогло выстоять ленинградцам в нечеловеческих условиях.В то же время автором, как профессиональным военным, сделан анализ событий, военных операций, что придает книге особенную глубину.2-е издание.