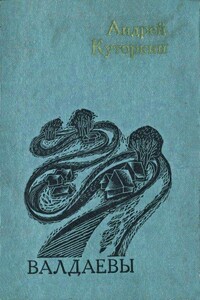— Сами не маленькие, — произносил Иван Лукич, отстраняясь от мягкого, рыхлого Кункина и вежливо поднося фаянсовый поильник с клюквенным морсом к голубому рту одного из лежачих.
— А это как в лотерее! — вспыхивал прозрачный дядя Валя. — На кого выпал номер, тот и помер. А не выпал — живи, ожидай. Тут везенье наоборот. Берем хотя бы Луку Иваныча. Это ж надо: человека, единичку малую, в захлопнутой отдельной квартире инсульт вместе с инфарктом к стене прижал! И хоть бы хрен. Везучий ты, то есть везучий наоборот, Лука Иванович!
— Иван Лукич!
— Не имеет значения. Главное, в точку не попали, не выиграли! А угадай вы номерок, сойдись серия, и где бы вы сейчас отдыхали? Скорей всего в Парголове.
— Ешьте как можно больше травы, — брал Почечуева за кушак Кункин. — Как вот грузины и прочие народы в горах. Они там дольше всех советских граждан живут, понятно? А почему? — строго спросил Кункин. — Трава потому что. И ягоды. Лучше всего — черноплодная рябина. А про свои пельмени забудьте. И про чай крепкий — тоже. Траву заваривайте: ромашку, зверобой.
Перед самой выпиской, в один из дней показали Почечуева хирургу. А на другой день хирург Ивану Лукичу желвак удалил, который элементарным жировиком оказался.
IX
Из больницы Почечуев помолодевшим возвернулся: десять килограммов весу сбросил: улыбка к нему во время удара приклеилась и теперь солнечным зайчиком блуждала по лицу.
— Чему радуетесь, Иван Лукич? — спросил его Кукарелов.
Почечуев сперва было застеснялся: походку свою с отяжелевшей ногой показывать не хотелось, а затем как бы развеселился даже, столкнувшись на лестничной площадке с Кукареловым.
— Отсрочку, Игорек, получил... Вот и радуюсь! Тебя опять вижу, вот и ликую. В деревню теперь съезжу. Рябину увижу, под которой мамаша носки мне вязала. Чтобы я в городе ноги не застудил. Уцелели ноженьки. Зато сердчишко поморозил... Душеньку. Поеду, теперь отогреюсь. У нас там речка теплая, церквушка над ней старенькая... Такая бабушка каменная. И — детство там... Могилку мамашину поищу. Реставрацию ей наведу.
— Скажите, Иван Лукич, страшно было умирать?
— Понятное дело — страшно. Только ведь и к страху привыкаешь. Человечишко — он ведь всю жизнь свою боится то одного, то другого. С крыши упасть, в речке утонуть, ремня батькиного боится, слез бабьих, пули военной, решетки тюремной... А уж смерти! Это ведь только напоследок, когда с ней в солидных летах носом к носу сойдешься, то вдруг и понимаешь: не страх от нее, а чары чудесные исходят. Тайна великая. Для смерти созреть необходимо. Молодым умирать негоже. Ибо — ужас великий и ничего более. А в моем состоянии не ужас — тайна. И благодарение за то, что посетил, что солнышком пользовался да всякими разными дождиками. За то, что Маню видел на турнике... в розовом.
Старик после больницы явно сентиментальнее сделался. И словоохотливей. Но почему-то слушать его было приятно.
И события жизненные после больницы от Почечуева не отвернулись. Едва на лестнице с Кукареловым распрощался, а уже новая встреча наклевывалась. В квартиру проник, как в склеп каменный: темно, прохладно... И тут, пока в дверях копошился, пока одной рукой запоры в действие приводил (к капризам второй руки еще не приспособился), — тут кто-то двери вовнутрь пихнул, и сразу загородом лесным запахло.
— Есть хто, али нету никого? — зашамкал полузнакомый голос. — Никак жив, Лукич? Тогда подвинься хорошенько, — и, оттеснив Почечуева дверью, в прихожую пролез тот самый дед с веником, любитель бани.
— А-а... Это вы! Хотя бы постучались, что ли... Едва знакомы, — сгрибился, сморщился Иван Лукич.
— Шишкин мое фамилие, али не признал? А звать Никодим, — шелестел дед, как веник. — Слыхал, будто кондрашка тебя прижала хорошенько... А я тебе в больничку апельсинов отнес. Девять штук. Дошла ль передача?
— Были апельсины. Так это вы на кульке нацарапали что-то? Не разобрать что...
— Карандашик обломился. Хотел привет тебе передать. А ты не робей шибко-то... Не мы первые, Лукич, не мы последние. Главное — подготовиться туда!
— Куда «туда»? — Почечуев не заметил, как нечаянно улыбнулся забавному деду. — На тот свет, что ли?
— И нет... Про местечко я... На кладбище. Два года пороги обивал. У меня сестрица на Красненьком. И мамаша. Так я и себе там местечко отвоевал. И тебе, друг, советую заранее, чтобы все... хорошенько!
— Странный вы какой-то... Да разве об этом при жизни думают? При жизни о другом соображают, — продолжал снисходительно улыбаться Почечуев, не переставая своему терпению удивляться: прежде, то есть до болезни, он бы того деда в шею с такими разговорами вытолкал бы... А сейчас улыбается.
«И откуда возник такой заботливый? Расторопный такой? Место, вишь ли, заранее себе забронировал. Устроился! В баню бегает, парится, как ненормальный. На девятом-то десятке. Нет, что ни говори, уезжать надо из города. Плохо ли в Почечуйках-то? Там и церковка, помнится, приятная и вообще уютный погостишко: березки, рябинки, акация. А бузины... Почему беспременно в Парголово ехать с этим делом? Или на Красненькое — почему?»
Размечтался Почечуев, даже про гостя забыл. А гость спортсменки с ног сковырнул и в комнату проходит.