Зори не гаснут - [5]
Она не посмеялась над моей мечтой, а назвала ее «большим делом», и по этому слову я почувствовал, что она сразу и вполне схватила мою мысль, а главное, поняла, что́ эта мысль для меня значит. В эту минуту я любил мать как никогда сильно.
Теперь я твердо знал, зачем встаю в семь часов, умываюсь холодной водой из-под крана и спешу в темноте по хрустящему снегу почти через весь город в школу. Я уже не читал все, что попадет в руки. Прежде чем взять книгу, я спрашивал себя, нужна ли она для моей мечты. Забросил я и стенографию, и стихи. Только не раздружился с Волгой. Любил я, спрятав одежду где-нибудь на берегу под бревнами, переплыть на остров и, лежа на теплом песке, слушать шум тальника и перебирать свои мысли.
Тогда я никому не решился бы их высказать, кроме матери. Непонятный мне самому стыд смутно подсказывал, что они еще совсем детские. Успех предстоящего дела рисовался мне в виде какого-то таинственного элексира, который в один прекрасный день возникнет из дыма и пламени в раскаленной реторте. Элексир вечной молодости. В ту пору я не знал, что мечта моя потерпела крах еще во время средневековья, что немало обыкновенных жуликов морочили этими химерами головы доверчивых людей.
Мой детский ум не мог помириться с неизбежной необходимостью смерти. Могущество человеческой изобретательности, представлялось мне, может победить даже законы природы, действовать вопреки им. Победить смерть — этому стоило посвятить не одну, а сто жизней одну за другой.
В старших классах наступило отрезвление. Книги открыли мне, что элексир искали и до меня. Это был путь преступлений и заблуждений. Авантюрист граф Калиостро продавал «элексир бессмертия», знаменитый ученый Парацельс бесплодно долгие годы искал «камень бессмертия». Папа римский Иннокентий VIII, пытаясь продлить свою жизнь, влил себе кровь троих мальчиков — погиб сам и умертвил детей… Все это было зачеркнуто наукой, как только она вышла из пеленок.
«Борьба со смертью» Поля де Крюи была первой книгой, которая познакомила меня с проблемой в ее научной постановке. Мечта о бессмертии сменилась мечтой о долголетии. Стало ясно — путь мой не химия, а медицина. В мединституте я ознакомился с опытами Броуна-Секара, Воронова, зачитывался статьями Мечникова, Богомольца, Гамалеи. Я был, пожалуй, самым увлеченным участником геронтологического кружка, который вел профессор Смородинов. Мы ставили опыты над белыми крысами и мышами, подобные тем, которые ставил профессор Анучин. Наши крысы жили тоже почти вдвое дольше, чем контрольные. Профессор Смородинов — ярый последователь Павлова — считал, что главным фактором старения является изнашивание нервной системы.
С двумя моими работами я выступил, и довольно успешно, на студенческих научных конференциях. Смородинов, ободряя, говорил, что у меня есть склонность к исследовательской работе. Такая похвала в его устах означала многое. Это был милый, очень честный, прямолинейно-правдивый старик. Он был доволен мной и все же несколько раз бросил мне резкое: «Узко мыслите». Я сознавал, откуда у меня эта узость. Все, что знал я, было книжным. Мучительно ощущал я недостаток практики, того жизненного и врачебного опыта, из которого только и рождаются новые мысли. Геронтология требует от исследователя огромных знаний, понимания живого человека со всеми его сложнейшими физиологическими процессами, со всеми его недугами, в его росте и старении. Вот почему тянуло меня из тесного кабинета долголетия, загроможденного стендами, диаграммами, препаратами, на вольный воздух, к практической работе.
Да и как я мог один из всего курса остаться при институте — это было бы похоже на дезертирство. Спрятаться за обложки книг в то время, когда товарищи мои смело кинутся в жизнь?
На шестом курсе Смородинов спросил меня:
— Какие у вас планы?
Я ответил ему то, что решил прежде:
— Ехать на работу.
— Куда?
— В Сибирь. Там работал мой отец.
Остального можно было не объяснять: Смородинов — умный старик. Мне хотелось работать именно там, где трудно, там, где больше всего нужны люди.
— Что ж, решение правильное, — согласился он. — Поработайте. Молочные зубы выпадут, вырастут коренные, тогда можно будет и за геронтологию взяться всерьез. Сибирь — это полезно. И для здоровья и для ума.
«К науке вернусь, — думал я упрямо. — Там же, в деревне, буду работать. Нет на свете ничего невозможного».
И ВОТ, НАКОНЕЦ…
В руках у меня направление. В Томском облздраве мне оформили все в два счета. Не успел даже разглядеть города. Общее впечатление такое: сквозь нечто деревянное, сумрачное, потемневшее от времени, пробиваются мощные, светлые ростки новых многоэтажных зданий.
Снова поезд. Снова за окнами бегут высокие зеленые ели. Короткая остановка. Прыгаю с верхней ступеньки на промасленную землю.
Пихтовое! Районное село, именуется Пихтовым. Но странно! На улицах ни единой пихты. Из редких палисадников перед окнами выглядывают лишь грязные кусты черемух да тощие, исхудалые рябины.
Вдоль главной улицы тянутся тесовые тротуарчики. Подле них зеленая низкая травка. На ней пасутся белые пекинские утки. Пятистенные бревенчатые избы с шатровыми крышами стоят уверенно, прочно. Улица избита тракторами и машинами. В колеях вода, в ней куски голубого неба, стерильная вата облаков.
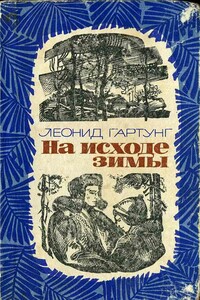
В книгу пошли повесть «На исходе зимы» и рассказы: «Как я был дефективным», «„Бесприданница“» и «Свидание».
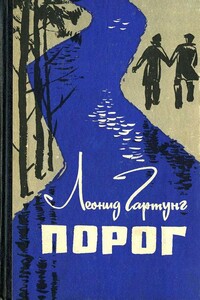
В центре повести Леонида Гартунга «Порог» — молодая учительница Тоня Найденова, начинающая свою трудовую жизнь в сибирском селе.
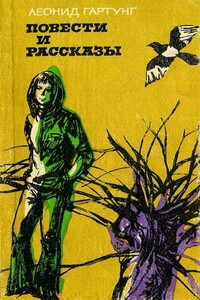
Член Союза писателей СССР Леонид Гартунг много лет проработал учителем в средней школе. Герои его произведений — представители сельской интеллигенции (учителя, врачи, работники библиотек) и школьники. Автора глубоко волнуют вопросы морали, педагогической этики, проблемы народного образования и просвещения.
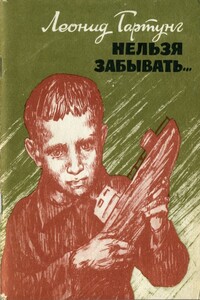
Повесть о военном детстве сибирского мальчика, о сложных трагических взаимоотношениях взрослых, окружавших героя повести.
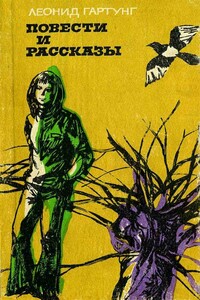
Леонид Гартунг, если можно так сказать, писатель-однолюб. Он пишет преимущественно о сельской интеллигенции, а потому часто пользуется подробностями своей собственной жизни.В повести «Алеша, Алексей…», пожалуй, его лучшей повести, Гартунг неожиданно вышел за рамки излюбленной тематики и в то же время своеобразно ее продолжил. Нравственное становление подростка, в годы Великой Отечественной войны попавшего в большой сибирский город, это — взволнованная исповедь, это — повествование о времени и о себе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
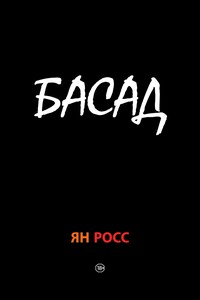
Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.