Зори не гаснут - [19]
На мраморном столе лежало тело девушки, приготовленное к вскрытию. Она погибла при автомобильной аварии всего час или два назад. Нежные девичьи груди чуть поникли. Вдоль тела на мраморе лежали ее руки — бессильные, бледные, с узкими накрашенными ногтями. Она вся была еще как живая, но то, что она, такая юная, красивая, лежала перед нами, не стыдясь своей наготы, внезапно открыло мне самое страшное в смерти — бесчувственность, безразличие ко всему на свете.
Странным и неправдоподобным показалось мне, что жизнь вокруг продолжает свое привычное течение. На улице гремел трамвай, по небу текли жизнерадостные, нарядные облака, и курносая студентка, склонившись у подоконника, записывала что-то в тетрадь автоматической ручкой.
Патологоанатом взял в пальцы скальпель так, как берут карандаш. Все медленно поплыло у меня перед глазами.
Потом я сидел у фонтана, и кто-то прикладывал к моим вискам мокрый носовой платок. Около меня теснились девушки-студентки, и одна из них спросила:
— И вы собираетесь стать врачом?.. Ну нет, — возразила она. — С такими нервами вам надо куда-нибудь в кулинарный.
С первой операции, на которой я присутствовал, мне тоже пришлось уйти, чтоб не упасть. Товарищи говорили мне, что я слишком нежен, что чересчур близко все принимаю к сердцу, Вера насмешливо советовала оставить мединститут, поступить на литературное отделение университета и стать поэтом.
Да, насмешничать и язвить Вера любила. Должно быть, это от неуважения к людям. Так легче жить — никого не уважать. Если б Вера хоть немного была похожа на Надю! В Наде нет и тени насмешливости — она видит жизнь просто и серьезно. Впрочем, она совсем еще девчушка. Ей всего восемнадцать. Она на целых шесть лет младше меня. Мне приятно, когда я вижу ее, но это ни к чему не обязывает. Просто я любуюсь ею, как любуются цветами, красивыми закатами.
Между прочим, я догадываюсь, что ей очень хочется спросить, чей портрет стоит на моем столе. Хочется, но я знаю, что она не спросит. Иногда она смотрит на него и о чем-то думает.
А если бы вдруг спросила? Что ответил бы я? Беру в руки портрет Веры. Она подарила мне его накануне отъезда. На фотографии она выглядит почему-то сердито, глаза смотрят с неприязнью. Может быть, против нее, рядом с фотографом, стоял ее муж? Помню, когда протянула мне фотографию, пошутила:
— Я здесь букой гляжу. Ну, да ничего — быстрее разлюбишь.
Легко, нехорошо сказала это слово «разлюбишь». И смех прозвучал нехорошо. Сказала, чтоб я начал разуверять… И все-таки какое милое и зовущее лицо! Зовущее и чужое. Оно всегда было несколько чужим.
Помню, дома у Веры я бывал редко. Она держалась связанно, смущалась, когда я приходил.
— Тебе, наверно, странно все у нас? — спрашивала она. — Мать у нас простая, деревенская. Отец — бывший машинист. А брат, сам видишь, неотесанный.
Мать ее носила дома платок, завязывая концы его под подбородком. У нее были узловатые, морщинистые руки. Отец-пенсионер копался в маленьком садике перед домом, ухаживая за яблоньками. У него с ладоней сходила желтая отмирающая кожа прежних мозолей. Он отрывал ее лоскутами и, качая головой, усмехался:
— Перехожу в группу интеллигенции.
Брат ее, Михаил, работал в депо токарем. Домой он возвращался в промасленной спецовке, с серыми от металлической пыли скулами. Вечерами на маленькой терраске он возился со своим радиоприемником — бесконечно что-то перестраивал в нем.
Я не понимал, почему Вера стыдится этих простых, трудолюбивых людей. Я чувствовал себя с ними легко и свободно.
Не знаю, где с Верой познакомился доцент Нечинский. Это был брюнет, худой, порывистый, с бурно расплескавшейся прической и красивыми глазами, всегда смотрящими чуть насмешливо. Говорили, что он талантливый фармаколог и его ждет блестящее будущее. Он ходил с Верой в театр, увозил ее на своем автомобиле за город.
Я спрашивал ее:
— Зачем ты встречаешься с ним?
— А что в этом плохого? Неужели я не могу иметь друзей? — удивлялась Вера, стараясь казаться беспечной.
— Он к тебе неравнодушен.
— Ну, это его дело. Как тебе не стыдно ревновать? Ты же сам говорил, что ревность — низкое чувство. И, кроме того, это ужасно скучно…
К сожалению, я успел убедиться, что это чувство не из возвышенных, — когда Нечинский беседовал с Верой, я сходил с ума от ненависти к нему, а прежде он мне нравился.
Однажды я догнал их на улице. Они возвращались с катка. Он держал ее под руку и говорил громко и фамильярно:
— После ваших глаз глаза всех других девушек кажутся пластмассовыми пуговицами.
И она не оскорбилась, а весело рассмеялась этому плоскому комплименту.
Вера начала избегать меня. Мы перестали встречаться.
Наступило лето. Я тосковал без нее. Однажды потребность видеть Веру стала совсем невыносимой. Я пошел к ней.
— Вера? Нет ее, — смутилась Верина мать.
— Случилось что? — встревожился я.
Старушка отвернулась. Подошел отец.
— Ну что оробела, старая? Шила в мешке не утаишь. Надо Виктору прямо сказать: не ходи — замуж она вышла. И здесь ее нет. В Сочах с мужем. Вот так, напрямик, лучше.
Вероятно, я изменился в лице, потому что старик осторожно взял меня за локоть:

В книгу пошли повесть «На исходе зимы» и рассказы: «Как я был дефективным», «„Бесприданница“» и «Свидание».
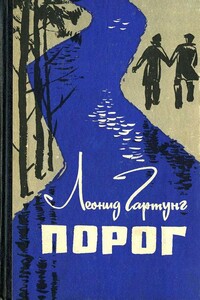
В центре повести Леонида Гартунга «Порог» — молодая учительница Тоня Найденова, начинающая свою трудовую жизнь в сибирском селе.

Повесть о военном детстве сибирского мальчика, о сложных трагических взаимоотношениях взрослых, окружавших героя повести.
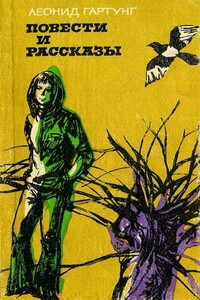
Член Союза писателей СССР Леонид Гартунг много лет проработал учителем в средней школе. Герои его произведений — представители сельской интеллигенции (учителя, врачи, работники библиотек) и школьники. Автора глубоко волнуют вопросы морали, педагогической этики, проблемы народного образования и просвещения.
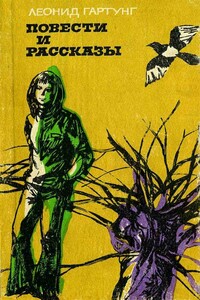
Леонид Гартунг, если можно так сказать, писатель-однолюб. Он пишет преимущественно о сельской интеллигенции, а потому часто пользуется подробностями своей собственной жизни.В повести «Алеша, Алексей…», пожалуй, его лучшей повести, Гартунг неожиданно вышел за рамки излюбленной тематики и в то же время своеобразно ее продолжил. Нравственное становление подростка, в годы Великой Отечественной войны попавшего в большой сибирский город, это — взволнованная исповедь, это — повествование о времени и о себе.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

